-
СЕГМЕНТ ПЕРВЫЙ
СЕГМЕНТ ВТОРОЙ
СЕГМЕНТ ВТОРОЙ
Эвенкия произрастает во всем, как истинная страна, существующая в мире, полном величия, счастья и добра. Волшебство есть ее секрет, любовь есть ее причина, звезда Чалбон есть ее венец. Ее дождик есть ее землишка под солнышком, которое есть ее творец. Ее история началась со сверх-яйца, разбитого лягушкой в реке Пук-пук; ее богатыри бились с великим мамонтом Сэли, угрожавшим ее реальности и чуду; ее девушки были знойными, словно радость сосков любимой; ее змеи были зверски глупы и бесстрашны. Ее почва подобна песку веков, ее лик похож на свет тайн бытия, ее водопады огромны, как священная гора, ее вершины величественны, словно небо над морем. Сэвэки из Сюнга создал ее братьев, дунув в ил. Софрон из Тимптона омыл свои руки в ее водах, напоминающих грезы души. Хек из фон Мекки озарил ее закат святой водичкой из себя. Ее наименование звучит: Э-вен-ки-я, и только так, блин. И Эвенкия есть божество на палке.
Когда она возникла, свет померк в глазах автора, ее выдумавшего и воплотившего в пот и кровь. И сказал он: «Бабах! Пусть будет цвет!» И стало так: охрой покрылись спины рыб, зеленью воссияли животики птиц. И увидел тот, что это херово, и смазал эту краску одним росчерком своего могущества, и обрезал все сущее, утопив в великом пруду, и затопал, и захлопал, и Эвенкия выплыла из ночи Ничто, как славная пава, и утвердилась она посреди, а под ней установилась вонь, зад, зындон. И когда ее кони понюхали друг у друга писки, ее сердце вознеслось над звездой и луной, а ее блеск достиг очей мировых чар. И когда ее тряпоньки стали главным прибежищем, а ее тапочки ликвидировали первородственный грех, ее дух стал смыслом блаженства небесного и сокровищем сна. А океан омывал ее, словно ласковый кейф, и ветер овевал ее, будто влюбленный муж.
Название есть ее сила, маразм есть последнее, что остается. В глубине ее главной пещеры спрятан ключ от сундука жертвенных слез, пролитых героем над гробом своей любви; в дупле ее святого дерева сокрыт клад ее свободы, достигнутой в борьбе за ее гордость; в груди ее старейшины клокочет благородный гнев правды; в омуте ее цели виднеется золотой шар.
Главное слово, когда-либо произносимое, главная буква, когда-либо начертанная на скрижалях, главный звук, когда-либо изданный пророком — все это есть Эвенкия. Эвенкия — страна чудес и морей, женщин и пальм, желтого и синего. Ее воины мускулисты, как обезьяны, и быстры, как гепарды. В бою они налетают незаметно, как комары, и разят наповал, как пятьсот вольт. Они пьют великое вино славы в чертоге своей страны и спят чутким солдатским сном на ложах вечной любви. Их дух горит, словно звезда, влекущая чистые души, и их руки держат луки, готовые смотреть в цель. Если придет враг, то их позовет бог, и если выступит чужой царь, то наступит ослепительный день. Победа, словно оргазм, осенит напряженный онанизм войны; труба, будто тромбон, продудит прекрасные ноты свершившегося свершения; герой, как вождь, поднимет вверх гордую правую руку; и на небе появится большая розовая буква «Э».
Эвенкия — мечта о высшей прелести, обетованное пространство теплого льда, страна мужчин, готовых дать отпор и зажечь костер, прелестное пристанище танцующих жриц, чарующее чудо. Она весела, она говорлива, она мудра, она бурлива. Ее лес есть ее желтоватая лужица у пригорка, на котором всегда возвышается храм.
И ее тайна есть ее река, когда она вяло течет по грязной божественной равнине, чтобы влиться в ужасающую глыбу океана; а ее загадка есть ее небо, распростертое над мерзлой землей наподобие преображенного церковного купола. Ее имя возникло единственно возможным названием, и никто не в силах был вымолвить его; и се имя открылось народу, словно истина, или книга, и все были озарены «Э», «В», «Е», «Н», «К», «И», «Я» — его буквами. Ее имя сперва замерзло, словно пойманный тигр, а потом взвилось вверх, как знамя. И отныне это есть.
Когда Бог сказал имя, пророк услышал слово. Когда Сэвэки послал лягушку за миром, Жужуки засунул себе палец в нос. Когда Чалбона возжелал Цолбон, Рокаускас выпил с Кукаускасом. Когда четыре дочери облачного господина взглянули на нечто неведомое, существо, владеющее ключом, сказало «пук-пук».
Ее Бог есть говно. Ее Бог есть уборная. Ее Бог есть чемодан.
Ее Бог есть ее имя, лучший эвенк, палец эвенка, засунутый в половую щель. Ее Бог есть река, летящая над черным океаном, сковавшим собой солнечный простор, ее Бог есть море, плещущееся возле дерева познания смерти, ее Бог есть Бог. Ее бог есть один из ее четырех богов; ее бог есть никто, или Ничто. Бог неотвратим, как Эвенкия, бог неисповедим, словно путь, бог несотворим, словно материя в одной из идей, бог недостаточен, будто смысл без бреда. Не-бог есть ее река, летящая над океаном, обнимающим мир, не-бог есть море, замерзшее у ног размышляющего царя, не-бог есть что-то невозможное, невыразимое, незнакомое, не-бога нет. Бог есть бог без не-бога, и не-Бог есть Бог в боге. Без Бога нет бога, и не-бог есть Бог. И Эвенкия, и Эвенкия есть.
Когда серый заяц ее легенд встанет в полный рост своего безумия, богатырь Софрон, сотворенный любовью самых старых ее жен, сядет на своего хвостатого коня и умчит в рай, где живет дева. Однажды маленький шаманенок увидел след крокодила на заснеженной дивной тропе, и тогда расцвели лилии в небесах и произошло подлинное лето, пахнущее ананасом и теплым песком. Как-то раз девчонка из чума обратила свой взор внутрь, и тут же случилась война бурь лазоревых зорь, завершившаяся миром, мамонтовым сыром, и согласием с творцом-кумиром. Когда-то народ услышал дорогую его сердцу весть, и счастье поселилось в душе каждого, как надежда на любовь.
И нет больше никакого страха, и нет более никакого праха; есть Эвенкия, есть страна, есть сосна, есть народ. Лиственница мудрости горит огнем загадки во тьме эзотерических побасенок; банан верности сверкает отблеском жаркой старости и доблести в мерцании смеха; киви благородства наливается соком откровений в шепоте восхищенных юношей; абрикос святости ликует и сияет в лучах ореола радости и благости. Нет большего наслаждения в мире, чем просто иметь страну, иметь имя, иметь сосну. Нет лучшего развлечения под атмосферой, чем любить страну, любить реку, любить жену. Нет чудесней приключения над почвой, чем страдать от красоты, богатства, бессмертия. Нет восторженней похождения между небом и землей, нежели полет в эвенкийскую даль.
Вот так все и возникает, и если бог позволяет, Эвенкия воскресает. Вечный бой сменяется бесконечной битвой; заря религии превращается в сумерки веры; откровение одной страны переходит в откровение другой страны. Море, река, лес, океан — это только обыденные названия для тайн и настоящих неведомых вещей; и только эвенк знает истину и вершит правду в своей выдуманной земле, и только эвенк может уничтожить (заелдыз!) Якутию. И ее нет.
Змеи, книги, вспышки и путешествия захватывают свободное создание, чтобы убить его, чтобы преобразить его, чтобы освободить его. Это бессмысленно, потому что нереально; ведь реальность — это Эвенкия, ведь Бог — это Бог Эвенкии, ведь Сэвэки — Жужуки, ведь стран никаких нет. И когда наступает величие и добро, нет резона прятаться в толщу небесную из цветков, смеха и гибели, — нужно лишь есть. Все ничего не означает, все — это она сама, все страны — ее страны, все чувства — ее чувства, все увиденное — ее бред. Ее имя — Э-вен-ки-я, и больше ничего.
Народ имеет право на единицу, двойка начинается с первого шага, шестерка замыкает ромб. Слово — всегда лишь слово, надо быть проходящим, и нужно пролететь сквозь душу, чтобы окончательно избавиться от нее. И если ангел позволит человеку не быть, время станет книгой, и мир станет звездой. Четвертый шаг означает цифру 4. Все слишком не то, что кажется и есть. И в конце концов, после всех стран, богов и чудес, оно существует. Замба! В первый раз мир был сотворен.
Онгонча первая
Он не был Софроном Исаевичсм Жукаускасом, он был эвенкийцем. Он и он стоял и стоял у входа и входа в белый и белый чум и чум. Вокруг и вокруг был и был большой и большой лагерь и лагерь, пестрящий и пестрящий разноцветными и разноцветными чумами и чумами, возле которых и которых суетились и суетились вооруженные и вооруженные серьезные и серьезные люди и люди. Тайга и тайга окружала и окружала это и это поселение и поселение войны и войны, словно естественный и естественный буфер и буфер дикой и дикой природы и природы, в котором и котором можно и можно сгинуть и сгинуть, или Превратиться и превратиться в страшное и страшное маленькое и маленькое существо и существо. Весь и весь лагерь и лагерь напоминал и напоминал стойбище и стойбище любителей и любителей авторской и авторской песни и песни, сменивших и сменивших почему-то и почему-то гитару и гитару на ружье и ружье. В центре и центре возвышался и возвышался большой и большой ослепительно-белый и ослепительно-белый чум и чум, рядом и рядом с которым и которым росло и росло невысокое и невысокое пробковое и пробковое дерево и дерево. У входа и входа в него и него стоял мускулистый и мускулистый смуглый и смуглый человек и человек с наглым и наглым лицом и лицом. Он и он не был и не был Софроном и Софроном Исаевичем и Исаевичем Жукаускасом и Жукаускасом, он был и был эвенкийцем и эвенкийцем.
Лагерь и лагерь располагался и располагался в глубине и глубине знойной и знойной тайги и тайги, пахнущей и пахнущей кедрачом и кедрачом, лианами и лианами и родной и родной землей и землей. Воинственные и воинственные эвенки и эвенки колготились и колготнлись там и там, выполняя и выполняя свои и свои разнообразные и разнообразные дела и дела, словно осы и осы в бумажном и бумажном гнезде и гнезде. Горели и горели костры и костры, жарилась и жарилась птица и птица, кто-то и кто-то любовался и любовался изяществом и изяществом папоротников и папоротников. Слышались и слышались четкие и четкие приказы и приказы и деловитые и деловитые рапорты и рапорты. Жужуки и Жужуки ковырялся и ковырялся в моторе и моторе мотороллера и мотороллера; Жергауль и Жергауль чистил и чистил небольшую и небольшую пушку и пушку. Женщина и женщина сидела и сидела на траве и траве и читала и читала журнал и журнал. Группа и группа людей и людей в зеленом и зеленом отрабатывала и отрабатывала приемы и приемы рукопашного и рукопашного боя и боя под командованием и командованием толстенького и толстенького лысенького и лысенького человечка и человечка в круглых и круглых очочках и очочках. На длинной и длинной палке и палке развевался и развевался коричневый и коричневый флаг и флаг с оранжевой и оранжевой цифрой и цифрой четыре и четыре. Еле и еле была и была слышна и слышна барабанная и барабанная дробь и дробь; на широком и широком пне и пне возле коричневого и коричневого чума и чума виднелась и виднелась чья-то и чья-то кровь и кровь. Часовые и часовые стояли и стояли около лиственниц и лиственниц, пальм и пальм, пихт и пихт, и не мигая и не мигая, смотрели и смотрели перед собой и собой. Собаки и собаки бегали и бегали повсюду и повсюду и лаяли и лаяли друг и друг на друга и друга и нюхали и нюхали друг и друг у друга и друга жопы и жопы.
Вездеход и вездеход, рыча и рыча, подъехал и подъехал к белому и белому чуму и чуму. Энгдекит и Энгдекит вышел и вышел из него и него и подошел и подошел к стоящему и стоящему возле чума и чума человеку и человеку. Одновременно и одновременно с этим и этим люди и люди в черном и черном с автоматами и автоматами вывели и вывели Головко и Головко, Ырыа и Ырыа, Идама и Идама, Жукаускаса и Жукаускаса. Головко и Головко поддерживал и поддерживал еле и еле идущего и идущего Жукаускаса и Жукаускаса под руку и руку. Ырыа и Ырыа вдруг и вдруг вышел и вышел вперед и вперед и громко и громко сказал и сказал:
— Я и я, поэт и поэт Якутии и Якутии, сейчас и сейчас в тайге и тайге. О и о, радость и радость, счастье и счастье, жеребец и жеребец! Здравствуй и здравствуй, меня и меня зовут и зовут Ырыа и Ырыа!
— Это двоичный стиль! — крикнул человек, стоящий возле белого чума. — А, мерзкие якуты!.. Вы что, не поняли, где вы?!
— Мы проезжали мимо.., — почтительно проговорил Головко. — Мы не якуты, мы же вообще не монголоидной расы…
— А что ты имеешь против монголоидов?! — рассерженно рявкнул человек и подошел к Абраму.
— Ничего, я наоборот… А его мы вообще не знаем, и стиля никакого не понимаем — двоичный, четвертной… Мы на свадьбу к другу…
— Лжешь! — злобно перебил его человек и агрессивно сжал зубы. — Вижу, что лжешь. Меня зовут Часатца, я — царь Эвенкии. Мы здесь сражаемся за свободу Эвенкии. Надо освободить нашу эвенкийскую тайгу и наши эвенкийские холмики и поляны. Чтобы всюду звучала эвенкийская речь, которую мы не понимаем из-за разных якутов. Сейчас разберемся, что у вас за свадьба.
— Они ехали в Алдан, к якутам, наверняка, с каким-нибудь заданием, — сказал Энгдекит.
— Разберемся. А этот юноша просто нагл! — обратился он к Ырыа.
— Я не нагл, я творю искусство! — презрительно сказал Ырыа. — Мне нравится все это событие, меня это развлекает.
— Посмотрим, как это тебя дальше развлечет, — сказал Часатца.
— Ха-ха-ха-ха!!! — засмеялся Энгдекит.
— А ты кто? — Часатца подошел к Идаму.
— Он вел автобус, у него был пистолет, он из Нерюнгри…
— Ах, гнида! — воскликнул Часатца.
— Я — эвенк, я — эвенк, — затараторил Идам. — Я этих вез, я их хотел вам отдать, я про вас листовку писал, в школе расклеивал, в бане рассказал, в булочной старушек бунтовал, дядю Васю агитировал, я — ваш агент, я за вас, я с вами.
— Он действительно хотел вас передать эвенкийской народной армии? — спросил Часатца.
Идам умоляюще посмотрел на Абрама. Жукаускас открыл свой распухший рот, но тут Абрам сказал:
— Он врет. Он считает, что все — Русь.
— Русь? — переспросил Часатца. — Что это?
— Ну, Россия.
— Ах, Россия… — ухмыляясь, проговорил Часатца, хлопнув в ладоши. — Видишь, что говорят твои сообщники…
Идам повернулся к Головко, смачно харкнул в него и произнес:
— Подлец!
Головко рванулся вперед, размахивая правым кулаком, но его остановил Энгдекит автоматом:
— Стоять!
— Я тебе дам, падла русская! — рассерженно выговорил Абрам, — Будешь дерьмо мое лизать!
— Лижи сам, — с издевкой ответил ему Идам.
— Молчать! — рявкнул Часатца. — Я вас спрашиваю! Итак, зачем ты их вез?!
— А кто их знает, — сказал Идам, — они, вроде, хотят Якутию отделить. Деньги мне заплатили.
— Ага… — кивнул Часатца, — понятно… А тебе что здесь надо?! — он подошел к Илье Ырыа.
Ырыа весело захохотал, развел свои руки в стороны, выставил левую ногу и проговорил нараспев:
— Я и я, цуп и цуп, поэт и поэт, билет и билет, Якутия и Якутия есть и есть Бог и Бог. Мне все равно; я — высшее создание, я воспою вас, я могу вас уничтожить, не воспев. Молитесь мне, слушайтесь меня, пужыжа, гажажа, рузика. Масалюда жоня.
— Ясно, — сказал Часатца. — Мне все ясно.
— Слушаю вас, — вопросительно обратился к нему Энгдекит.
— Вот этот вот, — он указал на Идама, — житель Нерюнгри, активный русский. Казнить без всего. А этот вот, — он показал на Ырыа, — дурачок, сумасшедший. Тоже казнить, к чему нам дальше слушать его пужыжы.
— Именно так! — гаркнул Энгдекит.
— А вот с этими двумя надо разобраться. Ну что, будете говорить, или нет?
— Мы все сказали, — рассудительно начал Головко, — мы…
— Жергауль! — крикнул Часатца.
Тут же откуда-то, наверное, из бежевого чума, появился огромный, очень мускулистый человек с толстым злобным лицом. Он выглядел вдвое больше Абрама Головко, и в руках у него была палка. Он подошел ко всей этой группе разбирающихся между собой людей и подобострастно посмотрел на Часатца сверху вниз.
Вдруг раздался какой-то тупой стук; Жукаускас вздрогнул, Энгдекит резко вскинул автомат. Это был Идам, он упал в обморок и теперь, словно лишенное каркаса чучело, мешковато лежал в траве.
— Это… что еще за дерьмо? — презрительно спросил Часатца.
— Сейчас уберем его, — четко ответил Энгдекит.
— Не понимаю! — весело воскликнул Илья Ырыа. — Разве не прекрасно быть казненным в станс гнусных достойных врагов?! Об этом можно только мечтать! Умереть, чтобы твоя отрубаемая голова выкрикнула какой-нибудь «пук-пук» в момент достижения топором его цели; прошептать свою последнюю тайну, когда огонь, охватывающий тебя, уже готов испепелить твой язык; напряженно молчать на колу; проповедовать гомосексуализм на кресте; являться целой поэмой из самого себя, болтаясь на веревке!.. Разве это не высшее чудо, смысл, восторг!.. Воистину, я счастлив!
— Посмотрим, как ты будешь дальше счастлив, — злобно сказал Часатца.
— Ха-ха-ха-ха!!! — засмеялся Энгдекит.
— Да уберите же вы его наконец! — крикнул Часатца. — И этого тоже ведите к нашим заворачивателям и готовьте к заворачиванию.
— Слушаюсь! — отчеканил Энгдекит.
Неожиданно Идам как будто пришел в себя и приподнял голову. Он испуганно посмотрел на Часатца и Жергауля и пролепетал:
— Че…го? За…за…ворач…
— А то вы не знаете, — рассерженно проговорил Часатца, — Заворачивание — национальная эвенкийская казнь. Эвенки всегда заворачивали своих врагов. По нашей великой вере завернутый человек в следующем своем рождении становится эвенком, то есть с нами. А ведь это прекрасно!
— Ка-ак… — прошептал Идам и уронил большую испуганную слезу на траву возле чума.
— Как-как, — довольным тоном передразнил Часатца, — а то вы не знаете! Все нерюнгринцы знают! Но я могу вам напомнить. Я могу. Мне это очень даже приятно!
Было видно, что ему действительно приятно.
— Одно мгновение, дорогой Энгдекит! Подождите, Жергауль! Послушайте и вы, поэты и агенты. Это же восторг! Заворачивание — древний чудесный ритуал убийства эвенкийских врагов, радость жителей великой Эвенкии, ужас якутов и юкагиров! Оно осуществляется очень просто, нужен лишь небольшой станок, специальное устройство, оставленное нам замечательными нашими предками: красивый лиственничный заворачиватель, окропленный кровью дятла и освященный святым именем. Я не могу его нарисовать; вы скоро его увидите и опробуете. Там площадка и два раздвижных шеста, которые приводятся в движение специальным штурвалом; и еще там есть разные шестерни и прочие штуки, но это уже чистая механика. Казнимый враг кладется на площадку на спину и потом его ноги резко сгинаются и привязываются к шесту, а голова просовывается между ними и вся это часть туловища за подмышки прочно привязывается к противоположному шесту. Руки должны быть связаны и не мешать заворачиванию. Затем, когда приготовления закончены, громко читается приговор и говорится священный эвенкийский звук, например «Хэ!», или «Пэ!» Казнящий медленно, или же наоборот быстро (это зависит от приговора) вращает штурвал, шесты раздвигаются, и человек заворачивается. Смерть наступает от неудобной позы, или же от каких-нибудь растяжений и переломов. Иногда немного завернут и так и оставят, но это редко, мы же не подонки. Интересно, что даже в Коране, который мы чтим, как побочную литературу, в суре «Завернувшийся» есть слова «О, завернувшийся!», что подчеркивает высочайшую ценность заворачивания и существа, который ему подвергся. В самом деле, после совершения этой гениальной казни, бывший враг, а в будущем эвенк, торжественно и пышно измельчается и засовывается в задницу лося, что в Эвенкии всегда считалось наиболее почетным способом захоронения. Я не знаю, как там сейчас, по-моему у вас всего один постоянный лось, да и тот уже истлел — сами понимаете, времена не те, что когда-то, когда вся Эвенкия была наводнена лосями, как мошкой — но мы попробуем засунуть вас всех ему в жопу. И скоро четыре эвенка осенят мир своим рождением. Ясненько?
— Ай-яй-яй-яй-яй! — запричитал Идам, потом замолчал, тупо посмотрел вверх и снова упал в обморок.
— Мне понравилось, — сказал Ырыа рассудительно, — но мне кажется, лучше засовывать не в жопу лося, а в пизду лисы.
— При чем здесь лиса! — не выдержал Энгдекит. — Она вообще — хитрая якутско-русская тварь. В Эвенкии никаких лис никогда и не было; были осы и козы, а лось — это целый мир!
— Вы это серьезно?.. — тревожно спросил Головко.
— Конечно, серьезно. Лисы были завезены из внутренней Монголии во времена моголов.
— Я не об этом! Я не об этом! Вы что, хотите нас завернуть?!
— А, испугались!.. — торжествующе воскликнул Часатца. — Ну, будете говорить?
— Нет! — гордо сказал Головко.
— А ты, слюнтяй?
Жукаускас стоял рядом с Абрамом и выглядел так, как будто ему только что отрезали половой орган. Губы его были сухи, щеки были белы и лоб был мокр. Он открыл рот, но Часатца отвернулся от него.
— Жсргауль! — сказал он по-деловому. — Давай-ка, начни с этого пугливого агента. А ты, Энгдекит, убери этих. Но без меня не казнить!
— Слушаюсь! — отчеканил Энгдекит и свистнул. Тут же появились два эвенка в черном, они взяли за руки за ноги Идама и унесли его. Ырыа, улыбаясь, последовал за ними. Энгдекит выставил автомат перед собой и ушел, замыкая все это шествие, нарочито маршируя.
— Вот так, — удовлетворенно промолвил Часатца. — Ну?
Жергауль посмотрел вверх, крякнул, выставил перед собой свои бычьи руки, отбросил палку, потряс кулаками, неспеша подошел к Головко, и вдруг со страшной силой ударил его ногой в пах.
— Уй! — только и смог вымолвить Абрам и тут же рухнул на траву, забившись в конвульсиях своей муки. Жукаускас зашатался, оставшись без опоры. Жергауль внимательно посмотрел на корчащегося Головко и резко опустил свой большой локоть на его дергающуюся шею. Головко как-то хрюкнул и мгновенно откинул голову назад, словно его поразил электрошок. Жергауль усмехнулся и отошел. Через четыре минуты Абрам затих и поднял голову. Его лицо было испуганным и бледным.
— Будешь говорить? — спросил Часатца. — Кто вы, откуда вы, куда вы едете?
— На… на… на… свадьбу, — выдавил из себя Головко, жалобно взглянув на Софрона.
— Понятно, Жергауль, давай-ка, сделаем ему притырки.
— У-гу-гу,— ответил называемый Жергаулем и быстро ушел в стоящий справа красный чум.
Он тут же вернулся, неся с собой две тонкие металлические трубки с утолщениями и ручками на конце.
— Ты залил? — спросил Часатца.
— У-гу-гу, — радостно ответил Жергауль.
— Так. Замечательно. Будем тебя, человечек, притыривать. Это наше новое эвенкское изобретение. Это просто. Притырка похожа на насос. Туда, в толстый конец, залита едкая злая кислота. Трубка притыривается тонким концом в какое-нибудь нежное место пытаемого, и потом — ух! — резкое нажатие на ручку, струя кислоты устремляется вперед и внедряется в тело. Больно; своего рода иглотерапия наоборот. Можно начинать с мясистой ягодицы, животика, а если враг упорствует, то в дело идет какой-нибудь глаз, яйцо. Ну, будешь говорить?
Головко со страхом посмотрел на трубки, проглотил свою слюну и сказал:
— Я… Правду говорю. Мы… на свадьбу едем. Нас… В Алдане ждут. Он… не врет.
— Тырь его! — приказал Часатца.
Жергауль быстро склонился над Абрамом и резким движением сильных рук сорвал с него штаны с трусами, обнажив длинный толстый член и поджарую спортивную попку. Он положил Головко ни живот и поставил на поясницу свою массивную ногу, прижав его к траве. Затем поднес к ягодицам две трубки и упер их в кожу задницы, держа за ручку. После этого он вопросительно посмотрел на Часатца и подмигнул побелевшему от ужаса и тоски Жукаускасу.
— Ух! — крикнул Часатца.
— Уй! — тут же взвизгнул Головко, дернувшись, как только мерзкая жидкость ужалила его плоть.
— Будешь говорить?
— Я… правду…
— Ух!
— Уй!
— Будешь говорить?
— Честно…
— Ух!
— Уй-юй-юйя!
— Давай-ка, Жергауль, к сосочкам.
— Вы — палачи… — промямлил еле стоящий Жукаускас и заплакал.
Жергауль резко перевернул ошарашенного Головко на спину. На его ягодицах были две раны, Абрам тяжело застонал, когда жесткая трава впилась в них. Жергауль взял свои трубки, но Головко скрестил руки на груди и неистово посмотрел в его толстое лицо. Жергауль отложил трубки, улыбнулся и вдруг неожиданно шесть раз быстро и сильно ударил Головко по лицу и животу. Губы Абрама окровавились, руки ослабли. Жергауль вытащил из кармана веревку и шило. Одним движением перевернув Головко обратно попкой к верху, он разжал сопротивляющиеся его руки и шилом быстро проколол их насквозь в запястьях. Продев веревки, он крепко связал руки, не обращая внимания на обильно сочащуюся кровь и громкие вопли. Потом, вновь перевернув свою жертву, он приставил притырки к волосатым большим соскам.
— Будешь говорить?
— Да я… У, гады… Вонючки, говночисты… Не скажу!
— Ух!
Жергауль нажал на ручки, и Головко мгновенно выгнулся дугой, как будто ему вставили в анус раскаленный шампур.
— Ааааааааааа!!! — возопил он. — Уууууууууу!!!
— Может, второго попробовать? — хитро спросил Часатца и посмотрел на полуобморочного Жукаускаса.
— Мы… ничего вам не скажем, подонки!.. — тяжело дыша, вымолвил Головко. — Убивайте, жгите, притыривайте, заворачивайте! Вам нас не сбить. Да здравствует Якутия!
— Давайте-ка второго попробуем, — повторил Часатца, и Жергауль кивнул и повернулся в сторону Софрона.
Раздался характерный звук и сильно завоняло. Жукаускас упал на колени, поднял вверх руки, и быстро-быстро заговорил, глотая сопли и слезы:
— Я скажу… Не надо… Только не это, умоляю… Не притыривайте… Нет… Мы — агенты ЛДРПЯ… Это партия… Мы хотим отделить Якутию и присоединить ее к Америке… Или Канаде… Или, на худой конец, к Японии… Прорыть туннель под океаном… Построить настоящие небоскребы, сделать тепло и бананы… Продать алмазы и все… Наш агент потерялся… У нас цепочка… Мы едем и добираемся до этого агента… Надо восстановить связь… А то Америка передумает, и Канада не захочет… Нам нужны пальмы побольше и жизнь получше… Мы за Якутию… Мы уже были в Кюсюре и в Мирном… Сейчас едем в Алдан, там агент Ефим Ылдя… Вы нас захватили… Но мы не против эвенков, мы за… В Якутии должно быть все…
— Отлично! — довольным тоном проговорил Часатца. — Прекрасно. Вот так вот я и узнал. Видите, какая чудесная вещь — притырки. По-моему, вы обкакались, приятель. То, что вы наболтали, это конечно же, полная околесица, но сейчас все возможно. Одного я не понял. Вы говорите: «Якутия, Якутия», а что это еще за Якутия? Нету никакой Якутии, есть Эвенкия. Эвенкия произрастает во всем, как истинная страна, существующая в мире, полном величия, счастья и добра. Якуты — всего лишь жалкое племя на эвенкийской территории. Скоро с ними будет покончено. Они вольются в единый эвенкийский народ. Хотите сражаться за Эвенкию?
— А Якутия? — с досадой воскликнул Софрон. — Все — Якутия, она везде!
— И вы так считаете? — обратился Часатца к Головко.
— Нет! — сипло выкрикнул Абрам. — Бог!
— А как же ваш Израиль? — спросил Жукаускас.
— Бог, — повторил Головко.
Часатца хитро ухмыльнулся и ударил себя руками по штанам.
— Ну, — приятели, вы вообще охренели. Мир, Бог, май… Чушь все это, дрянь. Якутская сказка. И я, как царь, приговариваю вас к заворачиванию. Вы предали нашу страну, и еще хотите уничтожить нашу пушистую зиму и ледяной океан. Тащите их, Жергауль!
— Нееееет!!! — заорал Жукаускас, почувствовав, как неумолимая рука дотронулась до него.
— Вас ждет зад лося! И эвенкская утроба, разумеется!
— Шу, — сказал Головко и закрыл глаза.
Жергауль обхватил шеи Жукаускаса и Головко и потащил их вперед. Сзади величественно шел Часатца, подняв вверх руки, и перед ним склонялись разнообразные эвенки около своих чумов, а он торжественно кивал им в ответ. На поляне стояли заворачиватели, и в двух из них уже находился Идам и Ырыа.
— А вот и вы! — весело крикнул Илья, увидев окровавленного Абрама и обосравшегося Софрона. — Я уже придумал стихотворение: «Капоша варара». Как, вы думаете, оно подходит этому прекрасному последнему моменту нашего тутошнего бытия?
— Да иди ты в член свиньи! — злобно выругался Головко.
Жергауль быстро привязал их к шестам заворачивателей и сказал:
— Если быстро сдохнешь — легче будет. Серьезно, пацаны.
— Ну, все готово? — предвкушающим голосом спросил Часатца.
Жергауль кивнул. У каждого заворачивателя встал эвенк в черном и положил руки на штурвал.
— Ну и…
Онгонча вторая
Раздался оглушительный выстрел, и Часатца рухнул на землю, простреленный в переносицу. Жергауль недоуменно посмотрел куда-то вправо и тут же упал, сраженный резкой автоматной очередью. Сразу начались дикие вопли, шум, возня, шелест листьев, стрельба, взрывы, всхлипы. Кто-то орал: «Га-га-га!!!» Кто-то бегал и прыгал, и кто-то дрался и мычал. Все эти звуки напоминали радиопередачу о войне, или же кинофильм о налете отважных героев на стойбище татуированных гадов. Жукаускас закрыл глаза и уткнул голову в свой воняющий пах, стараясь ни на миллиметр не высовываться на поверхность этого опасного мира. Головко, измученно улыбаясь, с любопытством смотрел вокруг. Но бой был недолгим. На поляну прибежало шестеро строгих мужчин в оранжевых одеждах с автоматами. Один из них подошел к йдаму и спросил, перекрикивая уже прекращающийся военный огнестрельный шум:
— Вы кто?!
— Мы… Мы… Мы… — начал мучительно соображать Идам, но тут вмешался Головко:
— Мы — враги эвенков.
— Верно! — обрадованно воскликнул человек. — Долой этих гадов, этих эвенков, этих самозванцев. Я вижу, мы успели вовремя! Вы с нами?
— А кто вы? — наглым тоном спросил Ырыа. Человек подозрительно осмотрел его скрученную фигуру, привязанную к шестам заворачивателя, потом усмехнулся, расставил ноги на ширине плеч, выставил вперед левую руку и гордо проговорил:
— Мы — эвены! Мы сражаемся за свободу Великой Эвении! Мы должны сбросить наконец ярмо русских, советско-депских, эвенкских, юкагирских и якутских самозванцев. Единственный морозно-северный подлинный народ — это эвены. Наша территория огромна; раньше она простиралась до южного моря и до западных сверкающих огней. Но падлы нас ужали и уменьшили; теперь мы всем все покажем! Эвения — единственная земля, существующая под небом среди гор, рек и костров; родина любви, заря чудес, золото истории! И мы воюем; сейчас мы выследили лагерь гнусных эвенков и неожиданно напали на них. И, насколько я слышу, наше пиф-паф сработало, и мы их всех засунем в рот кролику! Меня зовут Часатца.
— Неужели?! — удивился Ырыа и засмеялся. Человек злобно посмотрел на него и сказал:
— Не вижу ничего смешного. Ладно, сейчас мы посадим вас на лошадей и отвезем к себе. Там разберутся, кто вы, да что вы.
— Мы за эвенов! — воскликнул Идам, подобострастно улыбаясь.
— Посмотрим. Мне не нравится вот этот. Кто это?
— Я — поэт! — гордо заявил Ырыа. — Я — творец искусства. Перед своей несостоявшейся смертью я написал великое стихотворение: «Капоша варара». Я хочу в Алдан, потому что там война, и мне все равно. Я не хочу в Алдан, я хочу быть звеном, или эвенком, а еще мне нравится печатать на пишущей машинке огромный идиотский роман, в котором в принципе заключено все, но в такой дебильной форме, что хочется просто подтереться черно-белыми страницами. Пойдемте гулять в лес?!
— Не слушайте его! — заверещал Жукаускас: — Он — сумасшедший, он вообще не имеет к нам никакого отношения, мы ехали на автобусе к другу на свадьбу, и тут нас захватили эти ублюдки. Спасите нас, развяжите нас, мы любим Эвению, я сам на восьмушку эвен.
Часатца недоверчиво оглядел его, но тут Головко громко закричал.
— Вот этот человечек действительно вытерпел муку. Освободите его немедленно, как тебя зовут, солдат?
Двое в оранжевом отвязали йоги и тело Головко, перерезали веревку на его руках и медленно выдернули ее из двух кровоточащих ран на запястьях, от чего Головко стонал, несмотря на свои мужественно стиснутые зубы. Эвены заботливо подняли его и, поддерживая под локти, подвели к растроганному Часатца, который протянул вперед правую руку и четыре раза хлопнул Абрама по плечу.
— Ничего, братишка, мы за тебя отомстили. Видишь, валяются эти гниды на почве, сдохли твои мучители. Вот за что мы сражаемся; а о тебе надо написать, как они тебя истязали, собаки.
— Спасибо, — благодарно сказал Головко.
— Кто ты, откуда, ты — эвен?
— Не знаю, — ответил Головко загадочно. — Все равно. Мы ехали к другу на свадьбу.
— К какому другу?
— В Алдан.
— Так. Так. Так. — Часатца помрачнел. — А ты не врешь?
— Нет, — изумленно ответил Абрам.
— Но там же якуты, там же эта мразь… Ты за якутов?
— Бог, — промолвил Головко.
— Якутский? Юрюнг Айыы Тойон? Они ему молятся, плюя на Коран и на Сэвэки. Нам тоже коран не близок, и русского Христа-да-Марью мы не приемлем, но этих тюркских жеребцеедов мы все равно расхреначим! Ясненько все с тобой. А ну-ка, развяжитс-ка их всех, сейчас мы узнаем, что это за группа.
Люди в оранжевом немедленно набросились на лежащих в идиотских деревянных штуках пленников, буквально через шесть минут освободили их и встали в шеренгу перед своим командиром в ожидании дальнейших приказаний.
— Отлично, отлично, — сказал Часатца, оглядывая Жукаускаса, Идама и Ырыа. — А почему этот так воняет?
— А он обделался, — сказал Головко.
— Не выдержал… Понятно, понятно… А ты кто такой? — обратился он к Идаму.
— Да я шофер, я вез их, хотел вам сдать, я сам эвен, я ехал из Нерюнгри…
— Ах, из Нерюнгри! Так ты — русский, гад! Правильно тебя заворачивали. А автобус мы ваш отбили у эвенков, и теперь там наша охрана.
— Да я за вас!!!
— Это правда? — строго спросил Часатца. — Он действительно хотел вас вместо гнусного якутского Алдана привезти в штаб эвенской освободительной армии?!
— Нет! — пискнул Жукаускас. — Он сказал, что все — Русь!
— Русь?..
— Ну, Россия.
— Ах, Россия… — ухмыляясь, проговорил Часатца, хлопнув в ладоши. — Видишь, что говорят твои сообщники…
Идам повернулся к Софрону, зажал одну свою ноздрю большим пальцем и смачно сморкнул в его лицо желтой соплей.
— Вонючка хезаная! — выкрикнул он.
Жукаускас отпрянул, достал носовой платок, медленно вытерся, потом расстегнул штаны, засунул сзади руку и вытащил небольшой комок своего дерьма. Слегка размахнувшись, он бросил говно в Идама, но промахнулся и чуть было не попал в Часатца. Он тут же хотел повторить это действие, но разгневанный Часатца бросился на него, и после двух ударов в пах, Софрон неподвижно лежал в траве.
— И зачем только мы спасаем такую срань!.. — воскликнул Часатца, внимательно осмотрев свою ногу и вытерев ее о куртку Жукаускаса. — Ладно. Вижу, вы все лжете, вы за якутов, или за русских, что одно и то же, но я думаю, вы должны наконец расколоться. Итак, кто вы, откуда вы, куда вы идете?
— Мы ехали на свадьбу к другу в Алдан, — доброжелательно проговорил Головко.
— Врешь! Жергауль!
Из строя вышли два эвена в оранжевом.
— Видите, у нас целых два Жергауля. И оба чудесны! Жергаули, сделайте вот этому присыпку, а то он много о себе думает. Он уже подготовлен, поэтому резать не стоит. Ну что, будешь говорить?
— Я уже сказал, — твердо ответил Головко.
— Ну, как хочешь. Присыпка — это наше эвенское изобретение. Мы делаем рану, а потом сыпем на нее специальный гадкий порошок, который разъедает все кости. Это очень больно; это даже не соль, а вообще нечто ужасное. Не будешь говорить?
— Нет, — сказал Абрам,
— Жергаули! Приготовься!
Два звена резко положили голого Головко на живот, выставив кверху его поджарую спортивную попку с двумя ранами на ней. Затем они достали из кармана два блестящих металлических цилиндра, напоминающих перечницы, и, держа Головко за руки, поднесли эти цилиндры прямо к его ранам.
— Ух! — скомандовал Часатца.
— Уй! — крикнул Головко, как только сыпучая злая дрянь вошла в соприкосновение с его сожженной кислотой несчастной плотью.
— Будешь говорить?
— Мы на свадьбу, друг, Алдан, Софрон, автобус…
— Ух!
— Уя!
— Будешь говорить?
— Я сказал, сказал.
— Перевернуть! Присыпьте его соски. То, что от них осталось. Я думаю, когда дойдем до глаз, ты все скажешь.
— Да он умрет сейчас от боли, — заметил Ырыа. — Вышыша мукыра ляна.
— Ничего, он парень крепкий. Я думаю, связывать руки тебе больше не надо? Это ведь еще больнее. Ну, будешь говорить?
— Никогда! — с пафосом воскликнул Головко и попробовал плюнуть, но у него ничего не получилось.
— Ну и ладно. Жергаули!
Они перевернули Абрама на спину, наступили сапогами на его руки и приготовились присыпать огромные кровавые провалы бывших пухлых сосков.
— Ух!
— Ооооооооо!!! — возопил Головко и потерял сознание.
— Смотри, какой молодец! — с гордостью произнес Часатца. — Не раскололся. А ты, говнюк, тоже такой?
Он подошел к Софрону, который пришел в себя после избиения, и теперь с ужасом наблюдал пытки его стойкого напарника.
— Я скажу… Я скажу… Только не надо, умоляю… Не надо меня присыпать… Мы — агенты ЛДРПЯ… Это — партия Якутии… Мы за Якутию… Надо отделиться от Советской Депии… Наладить контакт с Америкой… Или с Канадой… Туннель под океаном и ананасы… Пляжи и бикини… За алмазы нам сделают все… Мы не хотим мерзлоту, мы хотим киви… Но наш агент потерялся… У нас цепочка… Мы должны его найти… Мы были уже у двух — в Мирном и в Кюсюре… Теперь нам надо в Алдан… Там агент Ефим Ылдя… Нас захватили эвенки, теперь вы… Мы против эвенков, но мы за эвенов… И пусть будет Якутия…
— Ах вот как! — сказал Часатца. — А как же Эвения? Нет такой страны «Якутия», есть страна «Эвения», понятно?! Мне стало все ясненько, сейчас мы их отвезем к нам, там покажем своему царю, он решит, как их казнить. А может быть, их вообще отпустят в великую тайгу грызть какой-нибудь корень. Мы вас посадим на две лошади и привяжем. Все будет именно так! Ля-ля-ля?!
— Эвения! — хором рявкнули люди в оранжевом. Через какое-то время связанных Жукаускаса, Ырыа и Идама привели в разгромленный лагерь эвенков, теперь кишаший их трупами. Головко волокли по земле, обвязав его мощный торс. Разноцветные чумы были повалены, белый чум забрызган кровью, а розовый чум стоял как ни в чем ни бывало. Слышалось ржание; это были кони эвенов.
— Это же якутские лошади с огромной гривой! — радостно воскликнул Жукаускас и тут же получил палкой по лбу.
— Не якутские, а эвенские, мразь! — злобно сказал ему Часатца.
— Да, конечно… — быстро согласился Жукаускас.
— То-то же. Жергаули! Сажайте их вон на тех коней и привязывайте. А этого уложите поперек.
Лагерь пах кровью, потом и гарью. Травы и пальмы были обожжены боем, словно сердца, опаленные военным горем. Искореженные тела беспорядочно валялись в шкурах бывшего уюта, и их кровь стекала в очаги, туша огни жизни. Враги, будто наглые пришельцы, топтали разрушенный порядок и даже не думали о новом воцарении хаоса и запустения в этом месте мира. Распад был еще сочен, горяч, яростен. Холод ужаса еще только начинал касаться своим ледяным бездушием этой проигранной вотчины мужества и неистовства. Лунный блеск будущего безлюдья и сгнивания до абсолютной сухости и ломкости мягкой и почти теплой материи еще не сковал своим умопомешательным ничтожеством начинающую цепенеть и коченеть бывшую буйную реальность. Лагерь еще был лагерем, хотя и разрушенным лагерем. Другие лагеря находились в иных краях, там существовали какие-то еще имена, цари и приключения. Здесь все кончалось; лошади вяло смотроли на трупы, какие-то женщины прятались за таежным баобабом, неслышно плача, некоторые эвены разбирали оружие врага и занимались мародерством. Дух обычности и предельности царил над этой действительностью; и если можно было здесь остаться навсегда и извлечь чудо и любовь, то это в самом деле было бы подлинно великой задачей и развлечением.
Они сидели, привязанные к лошадям, и перед Жукаускасом лежал наподобие свернутого ковра Головко, не приходящий в себя, а Ырыа, гордо восседающий на крупе другой лошади, выглядел словно лучший жокей Вселенной, победивший умелого блюдцеобразного инопланетянина, или всадник, собирающийся завоевать новую великую страну.
Смешной жестокий царственный лагерь эвенкийского волшебства и надежды прекращал свое движение в ночи убийственно реального ослепительного бытия. Он замыкал собою себя, рождающегося из потенции народа быть одним из великих чудес божественности, проявляемой в каждом и понимаемой так или так. Некоторые фрукты падали с деревьев, похожие на грезы о мечте пить нечто наисладчайшее, и черты лагеря теряли очертания, становясь прозрачными, незаметными, невесомыми, словно призрачные цепи, растворяемые страшным заклинанием, как крепкой кислотой. Тлен и мрак ждали бывшую солнечную воинственность и радостный азарт возможных побед; и восторженность имен одной нации сменились восторженностью имен другой нации. Будто две песчинки встретились на дне лужи, колеблемые волной от чьей-то ноги, и одна оказалась сильной, и другая оказалась могущественной, и сила была сокрушена, раздавлена и уничтожена славой, абсолютностью и величием. Теперь здесь был развал, темь, предчувствие серых вечеров. Если и стоило присутствовать здесь, то только ради самого главного и единственного, и тогда это становилось истинной целью и восхищением, и смысл существовал, словно Бог.
Лошади стояли, готовые ринуться в путь; Жукаускас, Ырыа и Идам были на них, изможденные и ждущие всего. Жукаускас как будто бы уже умер и пусто смотрел в темнеющую тайгу, Головко свешивался с двух концов лошади, как коромысло, Ырыа же возвышался над своим конем, будто рыцарь, устремленный в Святую Землю и видящий в своих великолепных снах чашу и любовь.
— Мы и мы поедем и поедем по тайге и тайге, чтобы достичь и достичь других и других событий и событий и народов и народов. Это и это говорю и говорю я и я — Ырыа и Ырыа!!
И они и они устремились и устремились вглубь и вглубь тайги и тайги; и их и их сопровождали и сопровождали воины и воины в оранжевом и оранжевом, и Часатца и Часатца гордо и гордо ехал и ехал впереди и впереди и показывал и показывал своему и своему отряду и отряду путь и путь. Лианы и лианы обвивали и обвивали большие и большие хвощи и хвощи; земляные и земляные груши и груши росли и росли повсюду и повсюду. Чавкала и чавкала мягкая и мягкая почва и почва под копытами и копытами. Эвены и эвены пели и пели песню и песню на староэвенском и староэвенском; и не было и не было понятно и понятно ничего и ничего. Тайга и тайга казалась и казалась преддверием и преддверием рая и рая. Какое-то и какое-то легкое и легкое сияние и сияние разливалось и разливалось и тут и тут, лошади и лошади вступали и вступали в гусеничные и гусеничные следы и следы вездехода и вездехода и почти и почти не спотыкались и не спотыкались. Все и все как будто и как будто осталось и осталось позади и позади; только и только замученный и замученный Головко и Головко, да вонючий и вонючий Жукаускас и Жукаускас напоминали и напоминали о происшедшем и происшедшем. Софрон и Софрон убаюкивался и убаюкивался ходящим и ходящим под ним и ним ходуном и ходуном шерстистым и шерстистым лошадиным и лошадиным телом и телом. Иногда и иногда ему и ему казалось и казалось, что он и он сейчас и сейчас просто и просто выпадет и выпадет из седла и седла, но веревки и веревки прочно и прочно держали и держали его и его. Головко и Головко все так же и всё так же мертво и мертво болтался и болтался у гривы и гривы. И они и они ехали и ехали очень и очень долго и долго. Ырыа и Ырыа почти и почти заснул и заснул, как вдруг и вдруг показался и показался просвет и просвет, и они и они очутились и очутились на шоссе и шоссе. Прямо и прямо перед и перед ними и ними стоял и стоял автобус и автобус. Там и там горел и горел свет и свет. Внутри и внутри сидели и сидели люди и люди в розовом и розовом.
— Гэ-гэ-ган!! — заорал Часатца, остановив своего коня. — Это я приехал; ко мне, эвены!
Немедленно раздался выстрел, и он упал в грязь, простреленный в бровь.
— Да здравствует Эвенкия! — закричал вдруг со своего места Идам, желая, очевидно, сразу же подольститься к очередным неприятелям. Протарахтела автоматная очередь; мертвый Идам свесился на левый бок, и только веревки удержали его. Загорелся яркий прожектор; за ним стояла розовая тень.
— Что это?!! Что я слышу?!! Мерзкие тунгусы! Разве вы не знаете, что в мире есть только одна земля и только один народ, и только одна страна охватывает собою все?! И страна называется ЯКУТИЯ!!!
Онгонча третья
Они ехали в автобусе, и за окнами простиралась великая Якутия, таинственная, словно призрак неведомых земель. Их охватывали грезы и жуткое успокоение, рожденное предчувствием неотвратимого будущего, ждущего впереди в конце пути. Чудесное смирение заполнило их души, словно надежда на внезапное преображение реальности и на свободу. Дорога была длинна, как жиденькая борода какого-нибудь мифологического старца, и начинались сумерки, печальные, будто признание в нелюбви. Автобус сопровождали два небольших грузовика с якутскими воинами внутри, и за рулем его сидел Семен Софро-нов. Головко лежал, укрытый собственной курткой, и отключение спал; рядом с ним сидел несгибаемый Ырыа; впереди дремали двое людей в розовом с автоматами; а в стороне от всех, развалясь, сидел Жукаускас, переодевшийся в другие штаны, и с грустью смотрел в пыльное окно.Это был комитет «Ысыах», их везли в Алдан, и им снова надо было изворачиваться, испытывать подлинный ужас гибели, хранить свою тайну и выполнять свой долг. Позади остались чудовищные тунгусские пытки и трупы; впереди была головокружительная неизвестность, и осознание ее неизбежности рождало ноющий, словно боль, страх. Штаны с дерьмом остались там же, где и мертвый Идам, и с их утратой кончились иллюзии, жалобно-требовательное отношение к жизни, ощущение своей неповторимости и бессмертия, и отчаянная жажда существовать. Появилось прекрасное безразличие настоящего существа, наконец-то испытавшего гибель и позор; и свет смерти зажегся в Софроне, словно долгожданная ночная знакомая звезда, указующая на берег, или конец леса.
Он откинулся назад, улыбнулся, схватил себя за руку, прошептал какое-то слово и закрыл глаза. Его пронзила истома, переходящая в волшебный сон, и внутренние краски открылись ему, как откровения высших миров.
И была голубизна, был остров Хорватия, была тайна, была белокурая Эзра — его любовь — и были переливы ледяных волн у домика с камином, седоватая борода с золотой цепочкой на шее, какие-то коричневые ходули, чтобы переступать через трупы и мжи, и счастье. Он порхал, щебетал, наслаждался и был настоящим светлорожим хорватом с хохолком, его звали Софрон Исаевич Жукаускас, и он был богат, весел и любим. Однажды он шел через езду и желал свободу своему народу, который был присоединен перешейком к полюсу. Каждый хорват — в чем-то землеройка; если все объединятся и перекусят перешеек, наступит радость, и остров выплывет из сладкого ледникового плена, и Бог посетит его. Такова была задача; надо было растить зубы, бунтовать народ, осматривать прочность земли и молиться, чтобы все состоялось и закончилось в лучшем виде.
Эзра была ленивой прелестью, нежной размазанной шалуньей, возникающей из ледяной пены, нисхождением красоты в небо, восторгом страны, концом тьмы. Эзра пряталась в вагонных лилиях, светилась в ночи разгадкой секрета небытия, кружилась в мишуре будущих народных битв, смотрела в лик Софрона своим взором, ждала смысла. Когда он видел ее странную скованную фигуру, он трогательно улыбался и поднимал указательный палец вверх. И они обнимались, целовались, и занимались любовью, и писали друг другу письма, и говорили о Хорватии — стране мечты, зари и развлечений.
Хорватия существовала под землей, как истинный остров говна Бога. Узревший ее, узрел все, понюхавший ее, унюхал все, услышавший ее, услышал все, потрогавший ее, потрогал все, но лучше было трогать, чем нюхать.
Софрон вышел из комнаты, вошел в дом, увидел Эзру, стоящую у окна, обращенного в тайгу, взял ее сосок, пощекотал мысок, подарил ей туесок и сделал прыг-скок.
— Мир есть суть Хорватии, ее даль, ее цель. ее история, ее религия, — сказал он. — Если перешеек не будет размыт нашим великим теплом и верой, мистерия будет проиграна, и настоящий бой так и начнется. А что есть служение, как не битва и надежда?! Ибо умножающий свой хохолок, умножает себя.
— Зу-зу, — сказала Эзра.
— Бог нам не понятен, но мы ему непостижимы, — продолжил Софрон. — Достигая предела смирения, мы вообще покидаем мир, и оказываемся в мире, который миром не является, потому что является миром. Все это есть пустое кручение колеса, или квадрата, и мы постоянно идем из точки А в точку Б, и думаем, что это А, а на самом деле это Б. Потому что это невозможно, и это невозможно, и единственный вывод, который можно сделать, будет все той же изначальной посылкой, и остается только все время говорить: «Нет, нет, нет», и это будет то самое «Да»,которое подспудно было нами желаемо. Потому что сложность, или гениальность системы, или высказывания, не имеют никакой ценности; если одно существо говорит: «Так!», громко пукая, а другое, говоря «Так!», получило первый приз за лучшее произнесение «Так!», между ними нет никакой разницы. И я выбираю страну; в конце концов, то, что я — хорват, это по-настоящему реально; и поэтому я буду перекусывать свой перешеек и любить тебя, и чудеса мне интересны, и тайны тоже, но мир не для меня и не для тебя. Если мы созданы дуроломами, почему бы нам не стать чуточку умнее? Итак, мир есть Хорватия, а Хорватия есть все.
— Песеццо, — сказала Эзра.
— Мне нет нужды напрягаться и осмысливать, обдумывать, оценивать все; надо делать дело, надо что-то совершать, надо перекусить перешеек, вот — ясная цель и задача. Творение не может творить, а если может, то это какой-то онанизм. Так существо вырождается, и кровь его гниет, и кости сохнут, а он считает, что просто что-то преодолело и стало выше. На деле же это дристня. Не надо путать интерес и власть; но если тебе интересно, не бойся в этом признаться. Могущества нет, как нет никаких стран; и только Хорватия существует. Хорошо?
Эзра ничего не ответила.
Софрон Жукаускас, как высший король, подошел к ней, обнял ее плечо и коснулся своим лбом ее восхитительных волос. Он тронул ее пушистый затылок, погладил ее лаковое предплечье, подул на ее жаркий позвонок, потерся о ее шелковую скулу, потеребил ее мягкий пупок. Она была нежна, как отдающая жрица;
Хорватия простиралась вокруг, как родина любви. Софрон в этом. сне прошел сквозь Эзру, растворяясь, стал легким, невесомым, любимым, раскрылся, распахнулся, раздался вширь и внутрь, объял собою лучший миг и предел, и как раз когда начался рай и засиял смысл, резкий голос вдруг прокричал:
— Кусысы!
Софрон немедленно проснулся, открыл глаза и поднял голову. Он сидел в темном автобусе, едущем в ночи посреди тайги. Автобус остановился; зажегся свет, шофер повернулся, и два дремавших человека в розовом резко пробудились и встали.
Абрам Головко неподвижно лежал на своем сидении; в его глазу торчала синяя отвертка, и оттуда стекала свежая красная кровь. Рядом стоял Илья Ырыа и победно улыбался.
— Это я! — воскликнул он. — Я убил его и сказал: «Кусысы!» Это мое произведение; это искусство. Я наконец создай!
— Вы… — прошептал Софрон, со страхом посмотрев на мертвого Абрама, — вы…
— Я! — гордо повторил Ырыа. — Я!
— Аааа! — заорал Софрон, устремляясь к Головко. — Аааа!
— Ты… чего? — ошарашенно произнес один из людей в розовом, подходя к Илье.
— Что же это, куда… как… — залепетал Софрон, наклоняясь над своим напарником, — он… мертв?! Как же, где же, где же сон, мою любовь, моя Эзра, моя Хорватия, мой… мой… мой… Абрам… — Жукаускас всхлипнул и начал рыдать.
— Мы же… плыли… летели… воевали… любили страну… Ой… Мой друг… Друг… Мой друг… Моя… Любовь… Любовь… Мое…
— Нету никакой Хорватии, есть Якутия, — жестко сказал Ырыа. — И я — ее первый поэт. Мое творение есть убийство вот этого плюс «кусысы!» Я мог это сделать настоящим якутским ножом, но я это сделал отверткой. Нравится?
В автобус вбежало два человека из грузовика сзади.
— Что это у вас? — озабоченно спросил один.
— Убийство, — ответил шофер, указав на Головко.
— Чего?! А кто убил?
— Вот этот… — печально сказал один из ошалевших, но все еще зевающих конвоиров.
— Вы что, заснули?!!
— Да мы…
— Вы охренели, что ли, ладно, будете отвечать, нам все равно.
Два человека ушли.
— Ну, парень, — сказал один из охранников в розовом, обращаясь к Ырыа, — сейчас тебе будет очень и очень плохо.
— Ааааааа!!!! — еще раз завопил Софрон.
— Заткнись ты! — рявкнул другой в розовом.
Через шесть минут избитый прикладами связанный Ырыа лежал на полу и кротко смотрел вверх заплывшими кровью глазами. Вокруг была безбрежная ночь; Софрон прижался к груди Абрама Головко, гладил его щеки, шею, шептал что-то нежное и громко рыдал.
— Ну, пора ехать, что ли, — деловито сказал шофер, нажимая на клаксон. — Там разберутся. До Алдана уже недалеко.
Онгонча четвертая
И Алдан возник вместе с розовым рассветом, и был похож на сыромятную скрипучую кожу погонного кнута, или на горсть квадратных якутских балаганов, устремленных в Верхний Мир, где скисающее молоко мироздания образует лунно-блеклую кожу мечущегося по льду чучуны, который ищет чум и другой народ. Город сиял древностью и роэовостьвд, словно свежесрубленная коновязь, окунутая в кумыс. Заря бездонно-пусто светилась над ним, представляя из себя несуществующий божественный колпак над мерзлотным простором запыленных золотоносных тальников. Жилища звенели горловым восторгом воскресшего мамонта и хранили в себе тайну лихих камланий и вымирающих оленей. Национальные бусинки на одеждах красавиц поблескивали, будто красная икра под огромной люстрой волшебного светлого ресторана; лошадиные хвосты как будто бы были везде. Дух северной черноты царил в образе этой атмосферы, но это был юг севера, и он словно резал саблей путаную паутину околополярности, которая, как паразит, словно пыталась высосать соки из зрелой мужественности таежной зоны. Проспекты, отсутствие небоскребов и округлых линий бросалось в глаза; в пальмах было нечто саблезубое и будто бы настоящее; и чудесные зимние сладкие плоды росли здесь у балаганов, и люди в розовых одеждах с удовольствием срывали их со стеблей. Храмы Юрючг Айыы Тойона стояли, натянув свою расписанную кожу, как корабль на якоре, в огромный парус которого дует попутный ветер. Шоссе, словно Млечный Путь Среднего Мира, шло прямо и не сворачивало назад.
Алдан был желтым огоньком засады в мечте о золотом веке, вторым или третьим пришествием аборигена в собственный утерянный мир, строганиной чудес на пылающем морозе любви, обращением в истинную белую веру, спасающую и золото, и моржа, тетивой страны. Он потрясал своими скалами, своей незыблемой старостью, развалинами своих школ и воинственностью своих деревьев. Все розовело вокруг; и люди были одеты в розовое, и розовый флаг развевался над большим белым балаганом. Розовый был тайным цветом Якутии, ее любовью, ее надеждой. Розовым цветом красилась Саргылана Великая; розовым блеском горел утренний Алдан.
Копья и мечи пулеметов охраняли въезд и вход в этот великий пригородный город, где мясо варили на улицах, и где в лесу не стреляли куликов. Танки с якутскими знаками напоминали пушистую водочную стылость туманных зимних сумерек, или же кобылиную улыбку отдыхающего бойца. Город был самой историей, состоящей из крови, гнева и счастья; он как будто бы имел сухожилия, скрепляющие его мрачный живой остов; в нем хотелось бороться за него и побеждать, и убивать; и дети здесь были омерзительно-крепки и широконоги, и бегали повсюду, ничего не боясь и визжа какие-то военные звуки.
Энергия золотой древности пульсировала тайным током в каждой частице алданской, в каждом добывающем драгоценность механизме, в личиках милых девочек. Неотмытость была очарованием, зовущим к себе. Таежные абрикосы трогательно выглядывали из-под пней; бананчики свисали с кустиков, как какие-то забавные стручки. Вонь сортиров мешалась с сочным запахом пота солдат в многочисленных палаточных казармах; якутские рабочие степенно шли на фабрику. Но везде были дозоры, розовые флаги, танкетки и зенитки.
Они ехали по шоссе в автобусе, сопровождаемом двумя небольшими грузовиками, и в нем лежал мертвый Абрам Головко, убитый находящимся там же Ильёй Ырыа, и Софрон Жукаускас сидел на сидении и буквально сходил с ума от горя и тоски.
— Я отомщу за тебя, мой добрый друг!.. — сказал он сквозь слезы и стукнул кулаком по своему колену.
— Сейчас, если можно, — попросил лежащий на полу окровавленный Ырыа.
Жукаускас бросил на него взгляд, полный высокого гнева и отвернулся к окну. Он посмотрел на Алдан, и ему не понравился Алдан.
— Вот жуть, дрянь! — воскликнул он. — И я здесь — один!! И такое страшное отдаление, и такая гнусная реальность! О, мой милый!..
— Заткнись! — приказал один из людей в розовом с автоматом. — Нам и так из-за вас грозит порка, а то чего похуже.
— Это ты заснул! — крикнул второй в розовом.
— Нет, ты!
— Нет, ты!
— Это он заснул!! — проорал первый, обращаясь к Ырыа.
— Я мог бы вас убить, — сказал тот, — но я…
Он не договорил, потому что тут же получил прикладом в челюсть. Автобус остановился около большого белого балагана. Вокруг царило множество людей в розовом с автоматами наготове. Шофер обернулся, укоризненно посмотрел в салон и сказал:
— Ну, приехали, идите, докладывайте…
— Я буду докладывать! — воскликнул он.
— Нет, я!
— Нет, я!
— Пойдем вместе.
— Хорошо, пойдем.
Они вышли из автобуса, подбежали к балагану, остановились на какое-то время, а потом быстро зашли внутрь. Ырыа хрипел у себя на автобусном полу. Жукаускас посмотрел на водителя и когда он отвернулся, быстро ударил Илью ладонью по щеке.
— Вот тебе! — прошептал он.
— Вуныса… — издал из себя Ырыа. — Куры.
Неожиданно в автобус зашло четыре человека в розовом.
— Пошли к царю! — приказал один. — Труп можно оставить здесь.
— Его тоже нужно взять! — возразил другой.
— Ну и неси его. А ты вставай, гнида, и ты, завязанный.
Жукаускас поднялся, печально посмотрел на начинающего коченеть Головко, и вышел из автобуса. За ним двое вели Ырыа, Остальные волоком вытащили труп Абрама.
И они все вошли в большое квадратное помещение, в углу которого в кресле сидел высокий якут с черными усами. Он был одет в розовый костюм с золотыми блестками. На пальце у него посверкивало маленькое золотое колечко, а в одном ухе висела большая золотая серьга. Там же находились четверо вооруженных воинов с бесстрастными лицами и два перепуганных конвоира из автобуса.
Жукаускас встал слева, Ырыа поставили на колени около него, а рядом положили труп. Все замерли.
— Ну?! — жестко спросил якут, сидящий на стуле.
— Я… убил его! -гордо прошамкал Ырыа.
— Это мне уже доложили. Кстати, представлюсь: я — царь Якутии Софрон Первый, князь Алдана, хан Томмота. Ну, Томмот мы, правда, еще не взяли. Я также повелитель реки Алдан. Мы ведем войну с русскими, советско-депскими, тунгусскими войсками, поскольку считаем, что Якутия принадлежит акутам. Вначале мы были комитетом «Ысыах», а теперь мы настоящая якутская армия и настоящее якутское государство. Для якутов!! Мне кажется, великий народ заслуживает этого.
— Да, конечно… — пролепетал Софрон.
— Помолчите, здесь я говорю. Я просто хочу всем попадающим к нам изложить о нас все. Чтобы не было никаких неясностей. Потом говорить будете вы. Понятно?
— Ясненько, — ответил Софрон.
— Вот и хорошо. Прежде всего, Якутия есть подлинная страна, существующая в мире, полном любви, изумительности и зла. Она таит в себе тайны и пустоту, обратимую в любое откровение этого света, который присутствует здесь, как неизбежность, или сущая красота, прекрасная, словно смысл чудес. Но в Якутии есть народ: якуты, то есть саха, или уранхай, в конце концов!! Он появился под ярчайшим якутским солнцем в незапамятные времена; его родил сам Эллэй со своей книгой, который по стружкам пришел вверх по реке и женился на дурнушке, мочившейся с пеной. И был Тыгын — поедатель детей, убийца хоринцев, царь Якутии, полубог звезд, и был Ленин — лысенький вонючка, обхезавший саха. Это из-за него, во многом, и из-за Советской Депии наш народ захирел, начал вырождаться и терять свою истинную энергию зверской могучей Природы. И теперь мы словно засунуты в попочку этого непонятного гособразования, а многие даже и не знают о нас и путают нас с мерзкими тунгусами, или удэгэ. Но мы — великие; мы — солнечные; мы — свежие, светлые; мы — цимес планеты, короли севера, зерно расы!! Мы — не какие-нибудь тофалары, не захудалые белорусы!.. И поэтому мы сказали: хватит. Разве это справедливо?! Хватит сосать нашу землю, испытывать нашу стойкость, ковырять наши алмазы, копать наше золото. Долой пришельцев, бичей, бродяг, лимитчиков, пьянь, рвань. Они корежат нашу великую якутскую землю, гадят в наши прекрасные якутские реки, грязнят наше древнее якутское море, засирают наши чудесные якутские пальмы. В основном, это русские, но и украинцы тоже. И армян этих носатых сколько!.. А тунгусы проклятые, которых мы давно еще выгнали отсюда, как расплодились?! Я думаю, вы с ними уже познакомились.
— Ох… — проговорил Софрон.
— Да. И нам кажется, что надо их всех срочно выпереть куда-нибудь в задницу, и жить своим народом в своей гениальной стране. И у нас тогда все-все будет, ведь у нас же все есть!.. Тунгусов надо засунуть на крайний север, чтобы их сковало льдами и продуло разной там пургой, русских на хер, а армян вообще вон, хоть в унитаз. Я их не люблю. В Якутии должны жить только якуты; и так уже много попили всякие переселенцы из наших чистых вечномерзлотных вод, и много уже истратили эти скоты наших волшебных богатейших изысканных руд. Об этом еще Кулаковский предупреждал, еще Мычаах писал: «Да идите вы все!..» Так вот, наконец, этот момент настал. Они должны все уйти; мы — бывший комитет «Ысыах», который начинал, как вполне парламентская импотентская партеечка, сейчас представляем собой всю Якутию, всех якутов и ее армию. И я ее царь, и буду биться за то, чтобы изгнать все не-якутское из Якутии. А как вы сами знаете, вне Якутии — вонь, мрак, носовой скрежет и грусть. Ну и черт с ними со всеми, мы их не звали, не приглашали, не хотели.
— А если кто-нибудь захочет остаться с вами? — спросил Софрон с заинтересованным видом.
— Как якут? — спросил царь.
— Ну… как это — как якут? А если он не якут от рождения?
— Ах, вот вы о чем! — улыбнулся царь. — Это можно сделать. Пластическая операция, потом плотное изучение языка, включение в себя подлинно якутского духа, изменение психики по якутскому типу, безмерная любовь к Якутии, вера в Юрюнг Айыы Тойона, и, может быть, у вас получится. Мы об этом поговорим позже, а сейчас, когда я вам кое-что рассказал, я хотел бы расспросить вас. Прежде всего, хотелось бы узнать у этого наглого побитого типа, зачем же он умертвил столь выдающийся человеческий экземпляр, сейчас в виде трупа лежащий перед нами?!
— Это — мой друг Головко!.. — воскликнул Жукаускас и заплакал.
— Понимаю, понимаю, — мягко сказал царь. — Ну, зачем вы это сделали? Мне даже просто любопытно. Ехали ведь в автобусе…
— Я — поэт! — немедленно заявил Ырыа, гордо подняв голову. — Это — мое искусство!
— Убивать?
— Я не убивал! Я ехал сюда воспевать якутскую войну. Я сам придумал дрсвнеякутский и пишу на нем стихи, например: «Кунака пасюся», или «Арона вука». Но мне мало, я хочу истинного творения, которое стоит жизни, судьбы, и потрясает на самом деле, а не просто как-то там эстетически, или этически. Вот — мое стихотворение. И вы — мои читатели, слушатели, зрители; вы не можете больше от меня отмахнуться, вы теперь не скажете, что это все дрянь, ерунда, чушь! Это — искусство, а не убийство. И кусысы, понятно?!
— Непонятно, — сказал царь, — просто маразм какой-то. Ты человека убил, а сейчас какую-то дуру гонишь. Искусство, говоришь? Я ничего в этом не понимаю, но искусство, по-моему, прежде всего, воспевает прекрасное, как олонхо, онгончи, или узорчатые сэргэ… А ты убил! Ладно, если не хочешь говорить, мы тебе поможем. У нас есть припеточки, муськи. Отвечай правду, ясненько?!
— Да он не врет, — вдруг вмешался Жукаускас, — он просто трехнутый, сумасшедший. Вы посмотрите на него: разве это нормальное существо? И все эти кусысы-мусысы.
— Арасюк! — крикнул Ырыа.
— Вот-вот.
— Ты в самом деле ущербен в мозгах? — тихо спросил царь.
-Я — поэт!!! — вскричал Ырыа. — Я пишу стихи! Этот трупик — мое стихотворение!!! И кусысы!!! Делайте со мной, что хотите, все равно мжа, шубища, казяса! Жну!
— Похоже на то, — согласился царь. — Дебил какой-то. Ну что ж, я — не психиатр, время военное, убийство совершено, надо наказывать. Придется его распять.
— Какой кайф! — воскликнул Ырыа.
— Да, он точно сдвинутый, — убежденно сказал царь Софрон. — Так бы его, конечно, надо было заключить в непроницаемую камеру для дураков и содержать, пока не околеет…
— Какой кайф! — воскликнул Ырыа.
Царь подошел к Илье и заинтересованно посмотрел в его открытое добродушное лицо.
— Ты что, в самом деле мудачок, или прикидываешься? Мы же не шутим. Мы распинаем тебя, понятно?! Прибиваем гвоздиками твои руки-ноги, крест встает, и…
— Какой кайф! — воскликнул Ырыа.
— Уберите его! — злобно приказал царь. — Он мне уже надоел. Заладил одно и то же. Наденьте на него чернявый венок, поколошматьте дубинушками по лопаткам и распните. И труп этот тоже отсюда уберите и закопайте его. А мы сейчас займемся допросом этого интересного человечка, оставшегося в живых.
— Слушаюсь! — завопил один человек в розовом.
— Слушаюсь! — закричал другой человек в розовом.
Они схватили ухмыляющегося Ырыа за связанные руки и увели. Илья при этом отбивал чечетку и радостно кричал: «Манана, манана!» «Искусство — это все!» Два оставшихся человека в розовом быстро вынесли труп Абрама Головко за дверь и затем вернулись. Царь улыбнулся, достал трубку с длинным металлическим мундштуком, набил ее какой-то сизой травой и закурил. Потом он посмотрел направо и увидел уныло стоящих автобусных конвоиров, которые испуганно смотрели в пол и не говорили ничего.
— А! — предвкушение заявил царь, выпуская в их сторону клубы зеленоватого пряного дыма. — Вот с кем еще надо разобраться!
Люди в розовом, относившие труп, щелкнули каблуками и взвели затворы своих автоматов. Конвоиры вздрогнули, один из них уронил себе на колено слезу.
— Мы случайно, мы не знали, это ведь какой-то маразм, зачем он убил!.. — запричитал конвоир, протянув свои руки в сторону злорадно курящего царя.
— Почему вы заснули?! — спросил он.
— Мы… мы виноваты… мы устали… Напряжение, сила, сопротивление…
— Ах, вот оно что… — издевательски проговорил царь.
— Мы… Извините… Мы дальнейшей службой оправдаем… Смоем… И нас смоет… Виноваты… Но мы — якуты…
— Ха! — воскликнул царь. — Они мне еще будут говорить! По сто палок в копчик каждому! Ясно?
— Да-да! — хором отчеканили два человека в розовом, подошли к конвоирам и стали утаскивать их за дверь.
— Нет! Нет! — в ужасе кричали те, пытаясь сопротивляться, но после нескольких ударов прикладами в скулы и бедра, заткнулись и подчинились. Люди в розовом, отведя их, немедленно вернулись и встали слева от царя, который сейчас весело рассматривал оцепеневшего Жукаускаса, стоящего напротив.
— Итак, ты остался один. Как тебя зовут?
— Софрон Жукаускас, — четко отвечал Софрон Жукаускас.
— Куда вы ехали?
— В Алдан.
— Что вам нужно в Алдане?
— Мы ехали к другу.
— К какому?
Софрон задумался. Сложный миг разнообразия возможных уловок, ускользаний и хитростей предстал перед ним, словно божественный лес перед путешественником в чудесной стране. Неизвестно было, что делать, и имел ли смысл риск, и была ли нужна ложь, и возможно ли было все, что угодно, и оставалась ли цель и задача. Ведь все утекло, протекло и изменилось так быстро и неотвратимо, что, возможно, изначальная радужность веселого предприятия уже растаяла и обратилась в мутную жидкость новой обыденности, гае нечто вершилось и закончилось; а может быть, все было не так. Но этот миг был истинно прекрасен и волнующ, как мягкий белый цветок у щеки прелестного существа, чья улыбка похожа на смех, — и, наверное, было все равно, существовал ли смысл этого мига, или важно было только некое преображенное присутствие его; ведь происходящее являлось предощущением провала в предательство, или в успех, и все дальнейшее в любом случае могло быть только неприятной деградацией этого великого состояния, или же его счастливой заменой на нечто неожиданно столь же блистательное и волшебное. Неизвестность царствовала сейчас, как дух осени, пронизывающий осеннюю рощу. Наступило счастье, словно откровение, озаряющее свободу. И истинное понимание победы затмило все, как чудный чертог.
— Его зовут Ефим Ылдя, — сказал Софрон. Царь удивленно поднял глаза и воскликнул:
— Вот ты и раскололся, приятель! Меня зовут Ефим Ылдя, понимаешь меня! И больше таких в Алдане нету, а я тебя первый раз вижу, дружок! Ну а то, что я — Софрон Первый, то это, сам понимаешь, духовное имя.
— Ефим Ылдя? — обескураженно переспросил Софрон.
— Ефим Ылдя!
— Духовное имя?
— Духовное имя!
— Вас зовут Ефим Ылдя?
— Меня зовут Ефим Ылдя! — смеясь, повторил царь и чмокнул, целуя воздух.
Жукаускас помолчал, нерешительно замер, потом вдруг резко поднял руки вверх, сделал шаг вперед и крикнул:
— Заелдыз!
Царь отшатнулся, будто его ужалили в нос. Он побледнел, посмотрел по сторонам, положил свою трубку на подлокотник кресла и сел в него.
— Оставьте нас наедине, — приказал он.
Онгонча пятая
Они сидели друг напротив друга, смотрели вниз и молчали. Софрон уселся на корточках прямо перед креслом Ылдя и постукивал пальцами по полу. Где-то вдали слышалась стрельба и крики; неразборчивые приказы сливались со звуками марширующих ботинок.
— Итак, ты из ЛДРПЯ, — сказал Ефим.
— Да, — согласился Софрон. — А вы — третий агент?
— Третий? — изумленно спросил Ылдя. — Что это еще значит?
— Третий агент в цепочке, связующей нас с Америкой и Канадой.
— Ах, вот ты о чем!.. — расхохотался Ылдя, хлопая себя ладонями по груди. — А я уже забыл всю эту муть. Да, как же, как же — туннель под полюсом, ананасы и улыбки!.. Тьфу! Тебя Ваня прислал, а?! Зачем я понадобился?
— Но вы же… — удивленно начал Жукаускас.
— Да все это муть. Я — царь Якутии, вот кто я. А то, что я влез в вашу смешную партейку, так это давно и по пьяни. Тебя Ваня прислал?
— Какой еще Ваня?!
— Ну, Павел Амадей Саха, как он себя сейчас называет, педрила этот мирненский. Отвечай, он тебя заслал?! И чего ему надо?
— Да нет… — быстро залепетал Жукаускас. — Мы из Якутска, я и Головко… — Софрон заплакал. — У нас задание… У нас ведь цепочка по всем городам… Для конспирации… А последний агент у океана… Он связан напрямую с Америкой… Или с Канадой… И он пропал — вы же сами это знаете, Павел Амадей нам говорил!.. И мы выясняем… Инспекция… Вот мы и приехали… А Абрама убил этот злостный поэт… А я здесь…
— Да перестань ты ныть! — сказал Ылдя:
— Вы же наш, как же так!.. — рыдая, проговорил Жукаускас. — Почему вы — царь, почему вы — якут? А как же будущее, цель, свет, тепло, истинные баобабы?! Дробаха говорил, что все агенты — нормальные, настоящие. И Саха…
— Заткни свою слезу! — раздраженно воскликнул Ылдя. — Ты прямо как доченька. Я что-то такое помню, но смутно. Я думал, что это шутка, ведь это же маразм! Туннель, киви, абрикосы, небоскребы… Какая на хср Америка, когда у нас сплошная мерзлая стылость и рухлядь! Да, мы бухали с этим педиком в Мирном, он все лез, а я ему в торец давал, а потом он нажрался совсем, блевал в кафетерии, и начал мне рассказывать про свою партию, про отделение от Депии, про полюс, про солнечную жизнь. Я подумал, что он гебист, сука, но тогда уже все равно было, и я сказал: «Замочись! В шмат!» Он говорит: теперь ты наш член, а я ему: соси свой собственный член, а он мне: ты агент, ты ведь из Алдана, а я ему: я из Намцев. Понятно, как все это было?!
— Нет, — честно ответил Софрон. — Как же он мог, как же вы согласились, когда же это все…
— Когда Депия Советская начала переживать закат!.. — нараспев проговорил Ылдя. — Не помню. Я собирался в Алдан за золотом, приехал, тут началась всяческая буза, мы создали комитет «Ысыах», я стал саха-председателсм, потом выперли всех русских, коммунистов, хохлов и армян и создали саха-армивд. Я думаю, что в Коми есть коми-армия. Депия в результате так и закончилась, или нет, мне плевать, а мы боремся за нашу собственную власть.
— А как же Саха?
— Армия? — быстро спросил Ефим.
— Нет, Павел Амадей!
— Ху-ху, — засмеялся царь, — этот гнойный гомосексуал, пьяный в дупелицу, сказал мне: будешь нашим агентом. Я: на хера мне это? Он опять: продаемся в Америку, выращиваем какао, делаем попкорн и занимаемся утренней пробежкой. Я: да в задницу! Он: я тебе плачу. И сунул мне какие-то не такие уж маленькие рубли. Я: другое дело, что надо? Потом я задумался, откуда у этого вонючки однополого деньги, видно, дурачок, алмаз спиздил. Он: наймешь другого агента и будешь ему передавать все в точности; в суть не вникай, это наша связь с Америкой и с Канадой. Установим цепь, последний агент у океана свяжется. с американцами и с канадцами. В общем, такой вот маразм. Пароль, если что, «заслдыз». Я подумал и сказал: да на здоровье, какая мне разница! Я на самом деле обожаю все эти шпионские бреды и политическую муть. И самое смешное, что я действительно нашел агента и передавал какую-то шифрованную чепуху — прямо детский сад!.. Ну а потом, конечно, пошли уже другие дела, и я это все послал. Ваня, правда, до сих пор иногда звонит и шлет всякие глупейшие телеграммы, типа «Выслал килограмм урюка больному дяде подтверди получение», но мне уже совсем не до того. Я приказал, чтобы на звонки из Мирного вообще не отвечали. Вот так-то вот. А тут вдруг ты: «заелдыз»! Что, в самом деле есть эта партеечка? А деньги-то я давно размотал. Да мне и плевать.
— А где следующий агент? — бесстрастно спросил Жукаускас.
Ылдя внимательно посмотрел на него, усмехнулся и подмигнул.
— Ну ты — шустрый парень!.. Ты что, не понял, кто я такой? Я, конечно же, срать хотел на ваше смехотворное объединение, но мало ли что… Ни про каких агентов я тебе не расскажу. Еще чего! Вдруг, это нам как-то навредит, хотя бы и в отдаленном будущем? А то будешь потом трезвонить, что царь Софрон Первый — агент какой-то ЛДРПЯ… Лучше вообще тебя убить на всякий случай.
— Я никому… — воскликнул Софрон, но Ефим его перебил:
— Молчать! Это уж я решу. Сейчас время такое, сам понимаешь, главное, как еще когда-то говорил эта падла Ленин, кто кого. Или мы, или нас. Если мы — то еще неизвестно, что из всего этого получится. Может, в результате будет какое-нибудь ханство Пук-Пук со столицей в Тикси, мне все равно, главное, чтобы я был ханом. Если я не буду" то кто-то другой будет, вот это и есть главное, а не какие-нибудь там великие цели и высшие задачи. Поэтому, я тебе ничего не скажу, и еще подумаю, что с тобой делать!
— Но вы же сами говорили: Якутия, якуты, справедливость…
— Да говно все это! — весело рявкнул царь. — Никаких стран нет, есть только пистолеты, ракеты, мышцы. Какая разница, комитет «Ысыах», или «Писиах»; «Якутия», или «Якотия»? Называйся хоть «пись-пись», но имей бомбочку. Язык — говно, он вообще постоянно меняется, метафизика — тоже говно, религия — тоже. И Бог — говно, хоть мы ему и молимся. Все это для собственной убедительности придумано, чтобы не стыдно было солдатику отдать свое здоровье, или жизнь за меня. Но на самом деле он все понимает. Есть просто абстрактная земля, почва, можешь ее и взять и понюхать, и ты поймешь, что она пахнет говном. А потом можешь назвать ее Якутией, Эвенкией, или вообще Кусысы. И объявить своей. В этом все и дело. Главное, что ты объявил се своей. И ты что, думаешь, я — такой великий якут? Да их вообще не существует, это просто какие-то отколовшиеся тувинцы. Ну, если ты сейчас оскорбишь мою национальную гордость, я конечно же буду страшно возмущен и так далее, но это ведь — кровь, бессознательное, это как если мне на ногу наступят, я сразу же машинально дам в харю.
— Так это вы разорвали цепочку?! — сокрушенно сказал Софрон.
— Не знаю. Мне надоели эти игрушки, я занимаюсь важным наиприятнейшим делом. В конце концов, я — царь, блин!
— Это вы передали, что это последний агент пропал?! А что с ним на самом деле?
— Да что ты прицепился ко мне! — сердито воскликнул Ефим Ылдя. — Я не помню! Кажется, этот последний на самом деле пропал. А может, я передал. Хрен его знает. Мне сейчас не до этого.
— Ну скажите, пожалуйста, имя и местонахождение следующего агента… — гнусаво попросил Софрон.
— Заткнись! Сейчас получишь в копчик!..
В это время в дверь громко постучали.
— Войдите! — приказал Ылдя и шепнул Софрону: — Встань.
Жукаускас резко вскочил, дверь распахнулась и вошел человек в розовой форме с пистолетом.
— Ваше величие, — сказал он, — чрезвычайное известие!
— Слушаю.
— Отряд русских оккупантов Ильи Мышки захватили драгу, которая добывает золото. Они отбили атаку советско-депского весьма ограниченного контингента, большая часть которого перешла на их сторону, и уже объявили все наше золото принадлежащим России.
— Вот гады… — выпалил царь.
— Что будем делать?
— Как что, болван, овца!.. Вперед, в бой, тревога! Собирай все войско на молебен и — сражаться! Мы отобьем у них драгу, покажем кузькину мать. Понятно?!
— У них пушки, ваше величие!
— А у нас зенитки! Вперед, воин!
Человек слегка присел, поднял вверх три пальца, повернулся кругом и быстро убежал. Ефим Ылдя взволнованно встал, взял свою трубку и нервно закурил.
— А ты будешь со мной! — сказал он Жукаускасу, стоящему рядом. — Будешь воевать за меня, понятно?! Хорошо себя проявишь — награжу, плохо — убью. И никаких дрючек!
— Да, — вяло согласился Софрон.
— Приготовься к жаркому бою. Сейчас мы им покажем, ведь правда, друг?
— Надеюсь, — сказал Софрон.
— Тогда пойдем, надо помолиться перед битвой; это ведь все серьезные вещи! Ты верующий?
— Верю в славу и величие Якутии! — серьезно провозгласил Софрон.
Ылдя захохотал, икнул и шлепнул Жукаускаса ладонью по заду.
— Ну, ты выдал, приятель!.. Прямо хочется встать «смирно» и уронить слезу. Вот сейчас и будешь сражаться за славу Якутии, а точнее за меня.. Ясненько?
Софрон что-то пробурчал и высоко поднял свой подбородок.
— Ладно, вперед, будем рубиться, чтоб было жарко! На молебен!!
Ылдя торжественно вышел из своих покоев, и за ним угрюмо последовал Софрон Жукаускас. Солдаты в розовом наклонили головы и подняли вверх указательный палец на левой руке. Ефим кивнул им и встал прямо у входа в свой царский балаган, смотря как перед ним шебуршатся различные подчиненные и осуществляют всевозможные солдатские построения из шеренг и рядов. Люди с желтыми повязками на шее бегали и покрикивали на людей без этих повязок. Человек в большой коричневой пилотке стоял неподалеку от Ылдя и злобно глядел на происходящее, иногда потрясывая кулаком и вопя какие-то непонятные восклицания. Наконец, через некоторое время, все было кончено. Люди в розовом стояли в одну напряженную линию в своих шеренгах и рядах, расставив носки ног и соединив пятки, и выгибали свои подбородки налево-вверх, словно антилопы, тянущиеся за сочными побегами, или как парализованный, у которого работает только голова, наблюдающий красоту луны. Люди с желтыми повязками встали у своих групп и выставили вперед ногу, подняв вверх указательный палец на левой руке. Человек в коричневой пилотке хлопнул себя ладонями по ляжкам, тяжело повернулся кругом, и, маршируя, подошел к лукаво сощурившемуся Ылдя. Он снял свою пилотку, поднял ее вверх над головой, как будто хотел бросить в лицо Ефиму, и отчеканил:
— Зу-зу! Ваше величие! Царская армия Великой Саха построена! Рапортовал Тюмюк.
— Спасибо за службу, — негромко сказал Ылдя, потом сделал шаг вперед, простер перед собой руки, как актер, демонстрирующий свое восхищение какой-нибудь живописной природой или женским платьем, и властно воскликнул:
— Здорово, прекрасные мои якуты!..
— Уранхай! Уранхай! Уранхай! — хором прокричали все.
— Наступило, саха мои милые, время славы, битв и побед. Русские подонки захватили нашу великолепную якутскую драгу, на которой добывается наше замечательнейшее якутское золото, принадлежащее нашей самой великой Якутии!
— Айхал! Айхал! — гневно ответили люди в розовом.
— Розовое наше знамя призывает нас на смертный бой с широкоглазой падалью! Ситуация осложняется наличием советско-депских, правда малочисленных, соединений.
— Ай, буйака-ам! Уруй! Уруй!
— Зарежем гнид, вонзим им ножички в печенку, засунем им сэргэ в задницу, зальем их кумысом, настрогаем их, как строганину!
— Куй! Куй!
— Золото для Якутии!!
— Саха!!! — в экстазе заорали солдаты и их командиры, и застучали сапогами о землю, требуя немедленно начинать поход.
— Саха, — жеманно повторил Ефим Ылдя и послал войску воздушный поцелуй.
— Саха!!! — взревело все вокруг. Жукаускас, стоящий подле царя, виновато отвернул взгляд и увидел раскидистую маленькую пальму у зенитки.
— А теперь, сахи мои, якуты ненаглядные, пойдемте ж молиться нашему Юрюнг Айыы Тойону, и пусть Первый Шаман благославит нас и покамлает за нашу победу!..
— О… — вдохнули все, и опять начались приказы, перестроения, повороты и команды.
— Вперед, со мной, ласточка, — издевательски прошептал Ефим Ылдя Софрону Жукаускасу. — Я вас от себя не отпущу. Плевать, что подумают. Мало ли, что вы там наболтаете обо мне! Царю этого не нужно.
— Почему же вы не говорите по-якутски, если вы — якуты? — спросил Софрон, горько усмехаясь.
— Молчать! — злобно отозвался Ылдя. — Это все из-за вас, из-за различных армяшек, русских… Это из-за вас у нас не было школ и любви к родной речи! Ничего, скоро я забуду вашу мерзкую мову! Вся эта мать, муть!..
— А вы читали Мычыаха? — трепетно произнес Жукаускас.
— На хер его, в жопу, в дерьмо!.. Предатель нации, удмуртский выкормыш!
— Ну и что, что его жена была из Ижевска? — быстро проговорил Софрон.
— Заткнись! — крикнул царь так, что на них обернулся человек в коричневой пилотке, укоризненно посмотревший на Софрона. — Иди рядом со мной.
Они пошли вперед, обойдя перестроившееся войско, и Ылдя гордо встал во главе его.
— А теперь иди за мной, — злобно шепнул он и пояснил недоуменно поглядевшему на него человеку в пилотке, который проследовал за ними:
— Это мой пленник. Важное дело. Никому не могу доверить. Человек почтительно кивнул и занял свое место за Жукауска-сом. Все замолчали, потом Ылдя вдруг завопил:
— Уранхаааа-ай!!..
И быстро пошел вперед, не оборачиваясь.
Армия двинулась следом, и по звуку состояла как будто бы из одного-единственного непомерно четкого воина, который недавно сдал на «отлично» зачет по строевой подготовке. Жукаускас быстро семенил, не попадая в общий ритм. Иногда ему наступал на пятки человек в коричневой пилотке и сердито бил его кулаком в поясницу.
И они подошли к огромному ослепительно-белому, сияющему белым светом остроконечному шатру посреди поляны с высокой зеленой травой. Шатер возвышался в бездонном сером небе, как белый дворец божественного героя или же как символ вечного очищения, наверное, ждущего души. Его жуткая, воздушная, невероятно чистая белизна будто поглощала окружающее, преображая краски, взгляды, ощущения и вещи. Великий молочный дух исходил от него, словно живительная сила, заключенная в волшебном горном хрустале. Дверь была открыта; внутри было белым-бело, и у входа стоял высокий якут в белой одежде, и он улыбался.
Царь остановился перед ним, склоняя голову, и войско остановилось перед ним, и Софрон остановился. Седой якут поднял вверх руки, поднял вверх лицо и поднял левую ногу. Он закрыл глаза и нараспев проговорил:
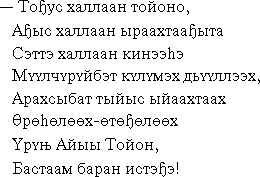
И тут наступила благодатная тишина, прозрачной прелестью чуда накрывшая существовавшую здесь суету, словно последняя великая белая ночь перед временем новых небес, опустившаяся на весь мир. Радость грядущих истинных тайн заполонила пространства и души волшебным восторженным чувством подлинного приобщения, произошедшего в один-единственный миг; пламя озаренной умилением любви охватило существа, сраженные прекрасным постижением, словно всеобщим сиянием, разлитым повсюду великой ослепительной рекой, и напряженная легкость разорвалась в невидимом воздухе, поразив унылую тяжесть недоделанных настроений и молитв. Холод воспарения ожег пьяным поцелуем свободы рутинообразность разнообразных индивидуальностей; изумленное забытье воцарилось, как другая эпоха, или мгновение; величие возникло внутри шатра. Звездное солнце свершения вспыхнуло, словно смысл пути, венчающий предел. Звуки бездонной тишины, в которой утонули откровения и упования, зажглись искрящейся радугой прибежища. Глаза всевозможности и любви проявились повсюду, будто высшее око, открытое взору надежды, и вихри веры взметнули ввысь простые жизни и сомнения созданий. Слезы смирения стали славой и трепетом в музыке чудесных миров; лики неведомого склонились над убаюканным духом существующих, как отцы. Неотвратимый водоворот бесконечного становления звал все в свои счастливые объятия, унося субъекты и эффекты в глубокую высь своей загадочной цели. Блаженство омыло сущности и всякие глупости сверкающей волной божественности, имеющей милость, ужас и имя.
Они стояли в светоносном центре шатра, поверженные и вознесенные его невероятием. Наступила великая размытость, воздушная благость, невесомость райского голоса. Они были придавлены своим собственным совершенством, и преображались в нечто едино-прекрасное, молящее на коленях о праве быть на коленях и о том, чтоб не быть. Что-то сияло вокруг, или впереди; кто-то взлетел, пробивая верх шатра и впуская ослепительный блеск в самое нутро того, что было здесь; время словно наступило на пятки самому себе и стало огненным кольцом; и слово было произнесено. Кто-то обратился к ним, нисходя потоком искрящихся откровений, несущий энергию, любовь и радость, и благо-славил их, обратив к себе. Кто-то явился и был, присутствуя внутри, словно солнечная точка тайны в сердце смысла, и искупление было в нем, будто безмерная душа, а реальность сияла вокруг него, как нимб. Кто-то возник из ничего на самой грани красоты и могущества, и был всегда здесь и объял всех. Кто-то открылся жаждущему взгляду пришедших, словно их мечта или последнее чудо, и стал ими, оставаясь им, и остался с ними, оставаясь с собой.
Как будто зарница конца ужалила холод начала знанием всеведенья. Картина мира выстраивалась и перестраивалась. Империя выросла из цифры шесть, закрыв змеей вход в ось. Красное было грязным, зеленое предшествовало изумруду, белое просилось наверх. Птица пролетела тьму, чтобы сгореть в двери. Раб поднял ковш и посохом нарисовал ромб. Царь надел два кольца и скрестил пальцы на руках, указав вниз. Сон родил видения квадратиков и кружков, фигуры теней указывали на наступление света. Река истины стала смешным ручьем. Двое сочли, что их двое и разговаривали об этом. Рыба величия не принадлежала никому, но все было в ее звездной пасти. Карта тайны упала на корону.
Невыразимая прелесть зацвела в благодарной душе поверженного в высшее счастье существа пышным святым деревом, выросшим за один блаженный миг у гор. Вечные ответы звенели в ушах, имеющихся у слушателя, будто освобождающие рассудок от скверны колокола, повешенные на вершине храма; слезы выступали на видевших образ глазах, словно капли нектара. Индивид был погружен вовнутрь, объяв окружающее, как вывернутая перчатка, по теории относительности вместившая в себя мир, и смеялся чистым смехом приобретаемой безгреховности, словно мальчик, постигший здоровый юмор подлинного неприличия. Огни желанных чудес преобразили зарево обыденности, и восторг воссиял, как небесный фонтан добра, власти, венца и любви.
— Это — Бог!.. — прошептал потрясенный Софрон.
Он стоял здесь, посреди шатра, не видя ничего другого, кроме того, что было видением и не слыша ничего другого, кроме того, что было слышаньем. Юрюнг Айыы Тойон был, и был вовне, внутри, везде. Якутия была Саха, А Саха был Уранхай. Бесстрашие и легкость охватили Софрона, заставив его раскрыть глаза, и вспышка невыразимой благодарности, пронзающей дух, ослепила его зрение и душу, и повергла его в белое ничто, рождая его. Он пал, взлетел, вскричал, вошел. Он стал, он стал им. И когда уже "напряжение дошло до своего начала, и истина не выдерживала саму себя, возник разноцветный взрыв и показалось что-то синее другое, и Софрон перестал принадлежать миру.
— Вставай, дурачок, вставай, чудик! — через бесконечное несуществующее время он услышал над рождающимся собой.
Они находились рядом с белым ритуальным шатром; дверь шатра была закрыта. Жукаускас лежал на зеленой траве, а над ним стоял усмехающийся Ылдя.
— Что, кайф словил?! Вставай, мы уходим, молебен окончен. Понравилось? Честно говоря, все это — дерьмистика! Но необходимо.
— Что это?.. — пролепетал Софрон, тряся головой. — Было ведь…
— Встать!- рявкнул Ылдя.
Жукаускас вскочил, но его шатало. Ефим ударил кулаком в его щеку, засмеялся и крикнул:
— Зу-зу!
— Ду-ду! — отвечало войско.
— Юрюнг Айыы Тойон с нами! Вы все видели! Слышали! Нюхали! Мы идем! Приготовить автоматы, прочистить зенитки! Жрец нам накамлал! Победа нас ждет!
— Кру-гом! — вдруг рявкнул человек в коричневой пилотке. — Раз, два!
Воины четко развернулись.
— Хан Марга!
— Я-я!! — выкрикнул маленький шустрый якут с желтой повязкой на шее.
— Ведите армию на правый бой, — зычно сказал человек в пилотке.
— Да-да! — проорал тот и побежал во главу войска.
— Мы двинемся следом, — ухмыльнувшись, тихо проговорил Ылдя. — А ты, чудик, будешь закрывать меня от случайных пуль. Ясненько?!
— Смерти нет, — блаженно улыбаясь, сказал Софрон.
— Вот и отлично! Хорошо будешь защищать — не убью!
— Ха-ха-ха, — пробормотал Софрон.
— Молчать! — разозлился Ефим, но тут армия двинулась вперед, четко маршируя, словно метроном, отбивающий ритм боевого марша.
— Песню… Затягивай! — приказал идущий вначале Марга. Через два шага все запели:
— Мы — знойные якуты
Пу-пу, ду-ду, зу-зу,
Засунем всех врагов своих
Мы в задик жеребца.
А после их порежем
Жо-жо, ло-ло, мо-мо,
На мерзкие обрезки
И облюем тогда.
Мы русских расхерачим,
Армяшек и мордву,
А после их засунем
В дерьмо мы омулей.
Чтоб ни один народик
Ви-ви, зи-зи, ки-ки,
Не пудрил наши мозги —
Великий Уранхай!
— Что это за предел маразма! — воскликнул Жукаускас. — Большего говна я, наверное, не слышал!
— Это — наша строевая песня! — злобно сказал Ылдя. — Я написал. Ясненько?!
Софрон промолчал.
— Ты осмеливаешься иметь что-то против нашей гениальной песни — великого якутского военного гимна?! — разъяренно спросил Ылдя. — Сейчас я тебе ноздрю на посох натяну!
Воины шли вперед, вздымая коричневую пыль, и с ними ехали машины, везущие какие-то розовые зенитки, или пушки. Солнце вышло из-за мутных облачков и противно слепило глаза, неприятно нагревая головные уборы. В этой мерной ходьбе слышалось позвякивание и шелест, и на солдатских якутских лицах появлялись капли ратного пота, образующие целые ручейки на лицах тех, кто вез зенитки. Все эти существа устремлялись биться за золото, как в доисторические эры, и командиры с желтыми повязками гордо поднимали подбородки вверх, склоняя голову направо, и любовно поглаживали приклады своих автоматов, почти как головки маленьких донек перед сном, и жаждали доблести, храбрости и упоения.
Они прошли мимо скособоченных изб, каменных желтых зданий и разнообразных балаганов, и вышли на узкое шоссе, уходящее вдаль; и справа от этого шоссе был пустырь, а на пустыре стоял высокий крест.
Жукаускас посмотрел направо и вдруг увидел замученную окровавленную фигурку Ильи Ырыа, прибитого за руки и за ноги к этому кресту. Какие-то колючки опутывали его голову, синяки и ссадины покрывали его худосочное тело, но бледное лицо насмешливо смотрело вниз, а пересохшие, с запекшейся кровью губы что-то шептали. Ырыа вздрогнул и напрягся. Голова его медленно начала подниматься вверх; от напряжения кровь потекла из ран; раздался глухой стон. Илья поглядел на проходящее войско взглядом дебила и стал делать ртом пукающие звуки в такт марширующим.
Софрон сжал кулаки и остановился; Ылдя презрительно хрюкнул.
— Что, увидели? — спросил он у Жукаускаса. — Ну пойдемте, подойдем к этому бедняге.
Они перепрыгнули через канаву и предстали перед сияющим в лучах солнца крестом. Ырыа, пукая ртом, безучастно осмотрел их, потом медленно улыбнулся и хрипло, с большим усилием произнес:
— Кукуня…
— Что ты там еще выделяешь! — нагло проговорил Ылдя. — О душе надо сейчас думать, а не обо всяких кукунях!
— Я хочу кончить его! — воскликнул Софрон.
— Да он и сам скоро отойдет. Ну, может, скажешь нам перед смертью что-нибудь вразумительное, а?!
Ырыа сощурил глаза, растянул губы в мерзкой гримасе, так, что они треснули и выступила кровь, напрягся еще больше и четко произнес:
— Жуй!
Потом быстро прошептал:
— Искусство победило, убийство, крест, смерть, жизнь — все искусство, все для искусства, все ради искусства. Мамчик мой, пушыша саваланаима, прими надпочечник мой через жир, почему ты наставил мне рога, почему ты не засунул мне в рот зук?!
— Вот гнида! — возмущенно крикнул Софрон. — Он опять за свое!
— Крепкий парень… — задумчиво сказал Ефим. — И все же, какое отвратительное зрелище! Пойдем отсюда, мне кажется, он сейчас уже околеет.
— Если бы не злость, меня бы сейчас стошнило, — проговорил Жукаускас.
Голова Ырыа упала на грудь; казалось, он потерял сознание.
— Смотри-ка — фффу!! — насмешливо воскликнул Ылдя, — он обмочился!
Софрон отскочил в сторону, как будто ему чем-то грозила безобидная желтая жидкость, трогательно стекающая по мертвенно-синим ногам Ильи, прибитым к кресту.
— Какая пакость!.. — сказал Ылдя. — Ладно, все с ним ясно. Он уже готов.
— Он что-то еще говорит! — вдруг заметил Софрон.
Они осторожно подошли к висящему вонючему Ырыа и прислушались. Глаза его были закрыты, тело казалось мягкой трухой, но рот упорно шевелился.
— Я… Я… Я… — шептал Ырыа.
— Ну, ну, давай же, скажи что-нибудь!
Ылдя смотрел на тело, теряющее жизнь, с азартом математика, совершающего последнее действие сложной большой задачи, или с задором игрока, ожидающего установки комбинации в игральном автомате.
— Я… Я… — уже хрипел Ырыа.
— Ну!
— Ямаха, — наконец произнес Илья и пусто замолчал, может быть, умерев.
— Тьфу, овца! — расхохотался Ефим Ылдя, повернулся и отошел от креста.
Жукаускас с пафосом посмотрел последний раз в грудь убийцы Головко, высморкался и тоже вернулся на свою дорогу. Солнце зашло; стало сумрачно; шум войска слышался уже где-то далеко впереди.
— Побежали, ласточка! — весело сказал Ылдя. — Видишь, надо догонять. Только смотри, без дурачков! У меня ведь есть пистолетик!
— Мне очень грустно, — промолвил Софрон.